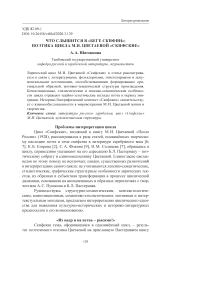Что слышится в "беге Скифии": поэтика цикла М.И. Цветаевой "Скифские"
Автор: Шатовкина Алла Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Лирический цикл М. И. Цветаевой «Скифские» в статье рассматривается в связи с литературными, фольклорными, эпистолярными и документальными источниками, способствовавшими формированию оригинальной образной, мотивно-тематической структуры произведения. Композиционные, стилистические и лексико-семантические особенности цикла отражают идейно-эстетические взгляды поэта в период эмиграции. Историко-биографический контекст «Скифских» свидетельствует о взаимообусловленности в мировоззрении М. И. Цветаевой жизни и творчества.
Литература русского зарубежья, цикл "скифские" м.и. цветаевой, художественная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/146281699
IDR: 146281699 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.129
Текст научной статьи Что слышится в "беге Скифии": поэтика цикла М.И. Цветаевой "Скифские"
Проблемы интерпретации цикла
Цикл «Скифские», входящий в книгу М. И. Цветаевой «После России» (1928), рассматривался в ряде статей, посвящённых творческому наследию поэта и теме скифства в литературе серебряного века [6; 7]. К. Б. Егорова [2], С. А. Фокина [9], Н. М. Солнцева [7], обращаясь к циклу, справедливо указывают на его адресацию Б.Л. Пастернаку – поэтическому собрату и единомышленнику Цветаевой. Единогласие цветае-ведов по этому поводу не исключает, однако, существенных разночтений в интерпретациях самого цикла: не учитываются лексико-семантические, стилистические, графические структурные особенности лирических текстов, их образная и субъектная трансформация в процессе циклической динамики, основанная на ассоциативных и образных перекличках с творчеством А. С. Пушкина и Б. Л. Пастернака.
Руководствуясь структурно-семиотическим, контекстологическим, композиционным, семантико-стилистическим, мотивным и интертекстуальным методами, предлагаем интерпретацию циклического единства для выявления культурно-исторических и историко-литературных предпосылок к его возникновению.
«Из недр и на ветвь – рысями!»
Скифская тема, оформившаяся в одноимённый цикл, – результат поэтического отклика Цветаевой на присланную Пастернаком книгу
«Темы и вариации» (1923). В письме к поэту от 10 февраля 1923 года Цветаева отмечала: «Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь. И я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона» [15, с. 34]. Временн а я и именная параллели продолжились в первом стихотворении цикла уже на следующий день: «И спи, молодой, смутный мой / Сириец, стрелу смертную / Леилами – и – лютнями / Глуша…» (здесь и далее цитаты из стихотворений приводятся по указанному изданию. – А. Ш.) [16, с. 316–318]. Лирические впечатления пересекались с эпистолярными: «Не ушам смертного – / (Единожды в век слышимый) / Эпический бег – Скифии!» – «Вы – сплошь шифрованы, Вы безнадёжны для “публики”. <…> А есть другой мир, где Ваша тайнопись – Детская пропись. Горние Вас читают шутя» [15, с. 36].
В ракурсе «эпического бега Скифии» образ Леилы, героини лирической повести Д-.Г. Байрона «Гяур» (1813), возникая во множественном числе как символ романтизма, отсылает к творчеству А.С. Пушкина. В его стихотворении «Гречанке» (1923) английский поэт-романтик именуется «певцом Леилы » , а образ героини запечатлён в более поздних пушкинских стихотворениях «Заклинание» (1830) и «От меня вечор Леила» (1835). В одном из книжных разделов «Тем и вариаций » , создавая образ Пушкина, Пастернак реализовал собственную образную версию предков поэта и его исторических корней: «плоскогубого хамита», «кафра» «времён Псамметиха» [4, с. 170–172], а в стихах «Облако. Звёзды. И сбоку», «Цыганских красок достигал», «В степи охладевал закат» [Там же, с. 174–176] – тему жизни свободолюбивого племени (см.: «И сбоку – / Шлях и – Алеко», «Ты похож на сирийца»), «возродив» романтический образ героя пушкинской поэмы «Цыганы» (1824), любимой Цветаевой с детства. Акцентируя преемственность романтических мотивов, в письме она замечала: «Я сама – собиратель, сама не от себя , сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей – во мне» (курсив М. Ц. – А. Ш.) [15, с. 39] (ср.: «Последняя зга – Скифия!»).
«Скифская» лирика, созданная на основе ролевой субъектности по принципу фольклорно-игровых стратегий, представлена в согласии поэта с мнением Ф. Сологуба: «Поэт играет всем. Единственное, чем он не играет – слово» [12, с. 9]. Степь как культурный концепт и пастернаковский первообраз («и вихрь степной свистел в ушах» [4, с. 171]) Цветаева вводит в художественно-историческую реконструкцию ( рыси, грифы, стрелы ): «Из недр и на ветвь – рысями! / Из недр и на ветр – свистами! // Гусиным пером писаны? / Да это ж стрела скифская! // Крутого крыла грифова / Последняя зга – Скифия!». Скифские «недра» перекликаются с характеристикой творчества Пастернака из цветаевской статьи-отклика
«Световой ливень» (1922) на книгу поэта «Сестра моя жизнь»: «Пастернак живёт не в слове, как дерево – не явственностью листвы, а корнем (тайной)» [13, с. 232]. Глубина залегания творческих корней в первом стихотворении цикла представляет Скифию «Великой – и – тихой меж мной и тобой»: слышима она «не ушам смертного», а «смутным» Пастернаком – достойным, по мнению поэта, преемником романтического наследия.
«(Колыбельная)»
Второе стихотворение имеет собственное заглавие, реализующее предыдущий мотив сна («И спи») как воплощение творческого сна-в и дения. Заметим, что у Пастернака в книге «Темы и вариации» образ Пушкина представляется в аналогичном состоянии: «Тот <Пушкин><…> / Закрыв глаза, стоит <на берегу моря> и видит в сфинксе <…> предка» [4, с. 170]. Ю.М. Лотман, трактуя феноменологическую природу сна, отмечает его пространственную «слитность»: «Сновидение отличается полилингви-альностью: оно погружает нас не в зрительные, словесные, музыкальные и пр. пространства, а в их слитность, аналогичную реальной. Это нереальная реальность» [3, с. 225]. Цветаева связывала знаковость сна с творческим процессом: «Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы приятеля» [13, с. 366]. Ю.М. Лотман, размышляя о природе искусства, говорит, по сути, о том же: «Искусство воссоздаёт принципиально новый уровень действительности, который отличается от неё резким увеличением свободы. <…> Оно делает возможным не только запрещённое, но и невозможное» [3, с. 234]. В этом ракурсе «(Колыбельная)» представляется реализацией «нереальной реальности».
Помимо фольклорно-стилистической, заговорно-рефренной композиции интерес представляют лексические цветовые повторы – «по синей по степи», «синь подушками глуша», «из моря из Каспий- / ско-го синего плаща»; фразеологизм «волынь»; авторский окказионализм «хвалынь». Цветовые образы перекликаются с образами-мотивами из пастернаковских «Тем и вариаций»: «и – рвётся фосфат», «голубой улыбкою пустыни», «Лбы голубее олив», «И засинел, уже безмерный / Уже, как песнь, безбрежный юг» [4, с. 174, 176]. Однако «синева» в поэтическом «багаже» автора появляется не впервые. В поэме «Царь-Девица» (1920) – множество пространственных вариантов «сини»: «синяя гладь», «синеморская хлябь», «сини-волны» [11, с. 194], «синяя верста» [Там же, с. 196], «степи синих вод» [Там же, с. 205], «Синь-то водная – что синькой подсинёна!» [Там же, с. 237]. Цветовой акцент украшает сказочно-фольклорный антураж поэмы и с образами «соседа», «вызвездившегося лба» [Там же, с. 193], «шатра» [Там же, с. 194], «стрел» [Там же, с. 198], «ко- лыбельной <как пути>» [Там же, с. 250], «хана» [Там же, с. 258]) «переселяется» на степные просторы Скифии.
«Синяя» степь в «(Колыбельной)» – ночная. Свет, льющийся «из ковша на лоб», наделяет смотрящего на звёзды героя образным сходством с пастернаковским Алеко: «сух, как скопец-звездочёт». Фраза лирического автора: «– Спи / Синь подушками глуша» – логично оправдана, но Алеко – ещё и расовый «иноверец», поэтому рекомендация оправдана вдвойне: «глушить подушками» синеву степи – реалию видимого, и синеву глаз – для «нереальной реальности» сна-в и дения. Состояние: «Дыши да не дунь / Гляди да не глянь » является условием присутствия в пространстве сна. Трижды повторяясь и трансформируясь, мотивно-образ-ный рефрен, оформленный в русле фольклорных традиций, заслуживает особого внимания. По нашему мнению, жанру «(Колыбельной)» присущ стиль загов о ра (на сон), в котором лирический автор, объединяясь с сущностью Сивиллы-пророчицы (один из авто-образов из книги Цветаевой «После России»), – искушён и всеведущ, вкладывая в колыбельную песню «программную установку» творческого самосовершенствования.
В этой связи песенный авангардизм «(Колыбельной)» – синтез классических, романтических и реалистических идей на базе фольклорных, библейских и литературных источников, – осмысливается как лирический «припев» к поэме «Царь-Девица». Впечатлённый поэмой Пастернак, в частности, отмечал: «Редкое и неожиданное сочетанье совершенно безмерного <…> лиризма с беглым, подробно-опрятным, не копостким <трудным> и крайне оформленным реализмом» [15, с. 28]. Загов о рно-рефренная ритмическая динамика «(Колыбельной)» строится на фольклорном, разговорно-употребительном выражении «волынить» и авторском окказионализме «хвалынь». Словарные статьи отмечают характерную особенность «волынного» процесса: «волынить: тянуть волынку – делать что-либо не спеша, при этом глагол волынить значит продолжительную мелодию» [18]. Специфическое звучание породило ряд фразеологических оборотов, в которых «заводить волынку» означало: «начинать долгий и скучный разговор, отнимать время у собеседника, вовлекать в обсуждение всем известных событий, фактов, действий» [10]. Поэт использует выражение «волынить» в повелительном наклонении в соответствии с адресной направленностью («тебе») и авторскими новообразованиями по принципу фольклорной стилизации: «Волынь-криво-лунь», «Волынь-перелынь», «Волынь-перезвонь».
Вариант рефрена: «Дыши да не дунь / Гляди да не глянь / Во-лынь-криволунь / Хвалынь-колывань» реализует авторскую установку на погружение в сон-творчество: первой рекомендацией «смутному сирийцу» предпосылаются сознательные, прочувствованные действия – твори, не нарушая естественного ритма («Дыши – да не дунь»), будь внимателен, не реагируй поверхностно («Гляди – да не глянь»). Творческая «настройка» заговора фольклорно усиливается: поэтически преломляй действительность («волынь-криволунь»). Таинственная «Колывань» в словарях имеет два значения: «древнерусское название Таллина, упоминаемое в летописях с XII по XVII вв.; название посёлка в Алтайском крае с находящейся в нём с 1802 года шлифовально-гранильной фабрикой, изготавливающей каменно-декоративные изделия для дворцов (вазы, камины, колонны)» [8]. Учитывая историко-биографические сведения (отец поэта, И. В. Цветаев занимался организацией и строительством Музея изящных искусств, открытие которого состоялось в 1912 году), предположим, что в рефрене участвует название посёлка. О существовании колыванской шлифовально-гранильной фабрики юная Цветаева могла знать по рассказам родителей, экспедиционные поездки которых были связаны с подбором экспонатов и строительных материалов для заложенного в 1898 году здания.
Кроме того, в поэме «Переулочки» (1922) среди «синевы» – мо-нохромности морского пространства поэмы «Царь-Девица», – присутствует семантика земного и небесного пространств, дополняемая окказионализмом «хвалынь»: «Помин / Морская Хвалынь / Синь-Савановна» [11, с. 277], «Синь-ты-Хвалынь / Сгинь-Бережок!», «Синь – в сапогах / Синь – в головах» [Там же, с. 278]). Поэт обращался к «хвалыни» в стихотворении «Душа», созданном за два дня до «(Колыбельной)»: «Лира! Лира! Хвалынь – синяя!» [16, с. 315]. Смысловая глубина окказионализма пространственно объёмна и динамична: «хвалынь» наделяется функциями жизни, смерти и памяти, включаясь в сферу бытия. Конструктивное решение автора – ввод в лирический текст цикла окказионального сочетания «хвалынь-колывань» как историко-географической реалии, – представляет творческий процесс «словесной» огранки индивидуальной культурно-исторической метафорой, а образная многозначность при минимуме лексических затрат максимально насыщена смыслом. В этой связи актуально наблюдение Г.-.Г. Гадамера, основателя философской герменевтики: «Коннотации, придающие слову полноту его содержания, а в ещё большей мере семантическое притяжение, внутренне присущее каждому слову (так что его значение многое притягивает к себе, то есть может очень по-разному себя определять), получают полную свободу развёртывания» [1, с. 120–121].
Следующая строфа «(Колыбельной)» – сложности в процессе сна-в и дения: «Как по льстивой по трост и / Росным бисером плеща / Заработают персты…». Большинством словарей «трость» представлена как «специальная палка для опоры при ходьбе; древко смычка; тонкая камышовая пластинка в механизме извлечения звуков у некоторых духовых музыкальных инструментов» [17]. Качественная характеристика
«трости» (см. «лесть»: «Притворное одобрение, похвала с корыстной целью, лукавая угодливость, униженное потворство, прельщенье, соблазн» [8]) и семантическая близость духового музыкального инструмента к лирическому «пению» позволяет автору объединить «трость» и «персты» в единый процесс. Однако, однозначную оценку мотивного образа «росным бисером плеща» выявляет контекстное сравнение из поэмы «Царь-Девица»: «На лбу – пот росою крупной!» [11, с. 199]. Метафорическое сходство – «росою крупной» и «росным бисером», – окончательно разводит процесс благородного труда героини и «обольщённого», в работе, героя: собственной недобросовестностью или принуждением к ней по чьей-либо указке-«трости». Рекомендацию-методику «поддерживает» видоизменённый рефрен, не совпадающий со строфическим членением: «Шаг подушками глуша // Лежи – да не двинь / Дрожи – да не грянь / Во-лынь-перелынь / Хвалынь-завирань» – из текста уходит убаюкивающее «спи»: его вытесняет конкретность «шага», знаменующего возврат в условную реальность, но «подушки» необходимы и здесь – «заглушать» чужие искушающие шаги или сдерживать собственные. Предостережение: сдержись, негодуй и бойся искушения, но не подчинись соблазну – композиционно усиливается очередным повтором. Превозмоги недопустимое переигрывание («волынь-перелынь»). В исторической памяти, как и в условной реальности, «наигранность» неестественна и лжива («хва-лынь-завирань»).
Пятая строфа реализует возможный этап сна-видения: «Как из моря из Каспий- / ского – синего плаща / Стрела свистнула да… / (спи / Смерть подушками глуша)…». Лексико-стилистические и графические особенности можно прокомментировать словами поэта, сказанными гораздо позже, но помогающими «предощутить» летящую стрелу, образно возникающую только в третьей строке: «Моя трудность (для меня – писания стихов и, м<ожет> б<ыть>, для других – понимания) в невозможности моей задачи. Например, словами (то есть смыслами) сказать стон… сказать звук» (курсив М. Ц. – А. Ш.) [12, с. 610] . Разрыв слова – это голосовая остановка, случившаяся в мгновение: сил хватает только «до-оз-вучить». После паузы авторской вставочной конструкцией рекомендация-напутствие продолжается, но уже без интонационного тире, предваряющего голосовую (звучащую) интонацию в стихотворении. Магическое «спи» со строчной буквы и многоточие после скобки свидетельствуют о тональном понижении-угасании голоса поэта, испытывающего ощущения, аналогичные «смертельным». Заключительный рефрен, трансформированный в очередной раз, в этом случае кажется, не должен существовать вовсе, но автор напутствует адресата в «нереальной реальности»: после паузы его голос возникает вновь: «Лови – да не тронь / Тони – да не кань / Волынь-перезвонь / Хвалынь-целовань». Смысл рефрена связан с архаическим, ритуальным «проживанием» смерти: сталкиваясь с ней, не прикасайся – «лови <стрелу> – да не тронь». Ощути её осознанно, но не окончательно: «тони – да не кань». Как и прежде, усилительный повтор представлен окказиональным «шифром»: так прочувствуй-переи-грай смерть в творчестве («волынь-перезвонь»), чтобы с благодарностью помниться и после реальной смерти («хвалынь-целовань»).
В «(Колыбельной)» фразеологизм «волынить» выступает и в прямом, и в переносном значении. Многозначный окказионализм «хвалынь» активирует смысловые понятия, входящие в сферу бытия: творчество, история, география, культура, труд, память, любовь, жизнь, смерть. Отметим, что, несмотря на циклическую нумерацию, стихотворение имеет заголовок, заключённый в скобки. Самостоятельное заглавие циклического стихотворения – не редкость в эмиграционном творчестве поэта, но, представленное параллельным планом, оно свидетельствует и об авторской самоидентификации – творческой установкой-образом и жизненной реальностью. Энергетика текста, мобилизующая творческие силы, вступает в противоречие с «убаюкивающим» заголовком: «усыпитель-ность» безгранична в художественном пространстве-времени, тогда как условную реальность характеризует единственная деталь – «подушка», не выполняющая защитной функции в реальной жизни.
«От стрел и от чар»
В окончательной редакции стихотворения Цветаева удалила название и скобочное пояснение, сопровождавшие текст в письме к Пастернаку: «“Богиня Иштар” (Луны и Войны. Её, по словам Персов, чтили Скифы.)» [15, с. 59]. Поступок, вероятно, был обусловлен соображениями, о которых упоминалось в письме А.В. Бахраху вследствие выхода предыдущей книги «Ремесло (1922): «Умолчала, согласно своему правилу – нет, инстинкту – ничего не облегчать читателю, как не терплю чтоб облегчали мне» [14, с. 137]. Отступая от комментария, заметим, что появление мифологического божества – следствие необходимости, обозн а чившейся ещё в первом стихотворении цикла («Не ушам смертного – // (Единожды в век слышимый) / Эпический бег – Скифии!)». Подчёркивая особые – вне времени и вне пространства, – полномочия «соседа »- «си-рийца»-Пастернака, Цветаева закладывала основание для «могущественного» адресата, реализующего общую композицию цикла.
Перемежая впечатления от пастернаковского творчества размышлениями о его особенностях, Цветаева отмечала: «Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. <…> Вы не созерцатель, а вершитель, – только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царём» (курсив здесь и далее в цитатах М. Ц – А. Ш.) [15, с. 39–40]. Возвратившись к письму несколькими днями позже, поэт признавался: «Это прорвалось как плотина – стихи к Вам. <…> Вы утомительны в моей жизни, голова устаёт. <…> Сумейте <…> быть <…> тем бездонным чаном, ничего не задерживающим …, чтобы сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!» [Там же, с. 42–43]. Сложно судить об очерёдности лирических и эпистолярных размышлений, но общая дата в письме и под стихотворением (14 февраля 1923 года) – свидетельство их взаимообусловленности. Лирическая страстность поэта, «отчаяние сказать невозможное» вызывают гамму чувств, композиционно оформленных так, по словам О.Г. Ревзиной, «что с помощью скобочных вставок вводятся две плоскости, на одной из которых даётся физическое действие одного субъекта, а на другой – психическое восприятие этого действия другим субъектом» [5, с. 472]. Иными словами, в стихотворении даны субъектные планы лирической героини и автора, которые стремятся к слитности, но не совпадают в абсолюте.
Единство поэтического самовыражения представлено ситуативно-качественными и пространственно-временными акцентами, характеризующими лирическую героиню и героя, «неявность» которого – в первой вставочной конструкции: «(Взял меня – хан!)». Подчёркивая равноценность их лирического почерка границами скобочных вставок («(Пламень востёр!)», «(Зарев и смол!)»), автор декларирует признание равнозначности мастерства, в то время как лирическая героиня, испытывая «ханский полон», обращается за моральной поддержкой с молитвой к высшим силам: мифологической богине Иштар. Выбор божества, не относящегося к скифскому пантеону, поясняет снятое поэтом вступление: богиня «Луны и Войны». Две полярных характеристики представляют широкий спектр функциональных полномочий: в любви и ненависти, в жизни и смерти. Этот принцип лёг в основу молитвенного обращения о стремлении к гармоничному развитию. Лирическая героиня просит уберечь поэтический «дом» и собратьев («шатёр: братьев, сестёр») от смертельных случайностей и жизненных обольщений («от стрел и от чар»), от необоснованных вознесений и от неожиданных падений («от гнёзд и от нор»). При этом автор удачно использует, хорошо знакомую ему (см.: [2, с. 162–173]), «скифскую» атрибутику.
Рефренная композиция по принципу культового заговора-молитвы, содержит лексические повторы и оформлена чередованием пятистрочных строф, каждая последняя строка из которых (искл.: заключительная строфа) графически отстоит от предыдущих, выполняя функцию смыслового усиления. Особенность обусловлена использованием вставочных конструкций субъектного плана, акцентирующих переход лирической героини от просьб общего характера к личным: «Руды моей вар / Вражды моей чан / Богиня Иштар / Храни мой колчан…». Ингредиенты для существования в жизни-творчестве диаметрально различны как и предыдущий перечень, но представляются взаимообусловленными, поскольку и кипение «руды»-крови, и брожение «вражды»-ненависти семантически составляют единое психологическое пространство (см. письмо Пастернаку: «Быть <…> бездонным чаном, ничего не задерживающим» [15, с. 42– 43]). «Колчан» – непременный атрибут скифского племени, – становится атрибутом поэтического братства, хранилищем лирических («гусиным пером писаных») и не менее острых стрел. Многоточие в конце четвёртой строки выполняет функцию интонационной паузы, скобочная вставка после которой реализует субъектный план, объясняющий «подлинность» причины обращения-молитвы («(Взял меня – хан!)»). Возникновение иноверческой богини логически оправдывается появлением «хана»: поэтическое «пленение» автора в итоге цикла связывается с территориально-этническим захватом Скифии персами в культурно-историческом прошлом.
Формулировка очередного желания («Чтоб не жил, кто стар / Чтоб не жил, кто хвор / Богиня Иштар / Храни мой костёр:») размытостью семантических границ включает в усиленный повтор «не жил» и новый атрибут кочевой жизни – «костёр». Строфический и синтаксический разрыв (двоеточие) углубляет смысл вставочной конструкции: «(Пламень востёр!)». Необычная характеристика пламени – «в-острота», – тождественна образу «стрел»-слов: заострённым, благодаря «писанию гусиным пером». Аналогия осуществляет взаимодействие образов – выявление и избавление от художественной косности и шаблонности: «пламень костра» молитву-обращение семантически окружает ореолом творческой атмосферы, уравнивая скобочным планом поэтическое мастерство автора и «хана». В следующей строфе: «Чтоб не жил – кто стар / Чтоб не жил – кто зол / Богиня Иштар / Храни мой котёл // (Зарев и смол!)» интерес представляют пунктуационные изменения (запятая – на тире) и образ котла. Слова из цитаты Ф.Сологуба «играть всем, но не словом», возведённые Цветаевой в творческий принцип, демонстрируют логическую и семантическую точность. Если взаимодействие «руды»-крови и «вражды»-кипения страстей происходит в «чане» – психологическом пространстве героини, то «котёл» – атрибут внешнего условно реального пространства и времени, объединяющий не только время-пространство: «(Зарев и смол!)» (дни и ночи, небо и землю), но и творческие истоки героини и «хана». Таким образом, «чан» и «котёл», являясь лексическими синонимами, не являются таковыми в семантико-смысловом значении. Замена запятой на тире является, по нашему мнению, интонационной паузой – тождественной предыдущей скобочной вставке (см.: «(Взял меня– хан!)»). Одушевляя качественные характеристики «стар» и «зол», автор связывает их с типическими субъектными образами. В этом убеждают «котёл», принадлежащий внешнему времени-пространству, и строки из письма поэта: «Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу – непо- винно, как человека. За то, что написано тогда-то, среди тех-то, там-то. За то, что это написано, а не то» [Там же, с. 41].
Заключительная строфа представлена объединённым пятистро-чием, синтаксически состоящим из двух семантических конструкций: «Чтоб н е жил – кто стар / Чтоб нежил – кто юн! / Богиня Иштар / Стреми мой табун / В тридевять лун!» с использованием лексико-фонетической омофонии («н е жил – нежил ») с графическим акцентом. Молитва-загов о р, в условной реальности рассчитанная на «проговаривание», вызывает интонационно-артикуляционную проблему у «постороннего» слушателя / читателя (ср.: «не ушам смертного»). Слышимая «тем», ради которого и возникла, а тем паче, самим божеством, которому суть молитвы ясна и без слов, она не нуждается в «дополнительных» акцентах. Смерть должна сопутствовать «старцу» – поэту, по мнению героини, остановившемуся в творческом развитии. Услаждать чуткий поэтический слух героини должен тот, чья «голосовая молодость» романтической образной стремительностью «взяла» её в полон (ср.: «молодой, смутный мой»). Отсутствие условной свободы («(Взял меня – хан!)») обязывает героиню во второй семантической конструкции подкорректировать просьбу-обращение: лирическая свобода как творческий простор («тридевять лун») фактически не всегда возможна, но поэтическое мышление – это, по сути, никем и ничем не сдерживаемый «табун». Ситуативная динамика стихотворения не нарушает гармоническую взаимообусловленность жизни и творчества, оставляя финал открытым.
В ходе исследования жанрово-композиционного и сюжетного развития скифской темы в цикле отмечается образно-субъектное тождество адресата и Пастернака. В первом стихотворении, благодаря образным ассоциациям из пастернаковской книги «Темы и вариации», адресат явлен «соседом» (на момент создания цикла Пастернак находился в Берлине, Цветаева – в пригороде Праги) и «молодым, смутным сирийцем» (в книге представлено его раннее творчество). Во втором стихотворении адресат «убаюкивался» на сон-творчество в соответствии с предыдущим мотивом («И спи»). Закономерность вопроса: чем обусловлена метаморфоза «сириец» – «хан» снимается историко-биографическим фактом-соответствием. В одной из цитат из писем Цветаевой присутствует «основание» для преобразования: «Вы не созерцатель, а вершитель, – только дел таких нет здесь . Не мыслю Вас: ни воином, ни царём» (курсив наш – А. Ш.) [15, с. 39–40]. Другими словами, «хан» является воином-царём в художественно-лирическом мире. Осуществляя миссию «захватчика» в соответствии с культурно-историческим контекстом, он оказывается равнозначным героине-автору в методах творческой реализации.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что поэтическое и мировоззренческое мышление Цветаевой в цикле «Скифские» харак- теризуется динамической активностью, охватывающей все сферы творческой деятельности: поэтической, эпистолярной, дневниковой. Культурно-историческими и историко-биографическими предпосылками циклу послужила книга Пастернака «Темы и вариации» с представленными в ней образами Пушкина и пушкинских лирических героев. Образная перекличка связывает поэта-классика с действующими поэтами причастностью к романтическим истокам лирики. Возникновению мотивно-те-матического комплекса способствовали развитие эпистолярного общения Цветаевой и Пастернака, дневниковые размышления поэта о жизненных и творческих проблемах эмиграционного периода, чтение древнегреческой и русской фольклорной литературы.
Композиционная, лексико-стилистическая и семантическая структура цикла представляют процесс творческого самовыражения в обращении к культурно-историческим фактам, документально-литературным источникам и фольклорно-игровым стратегиям. Эмоционально-ценностная ориентация цикла формируется на основе эпико-драматического и романтического восприятия мира, на идейно-эстетической устремлённости поэта к гармоническому сосуществованию физической и духовной сущностей, на неизбывной тоске по первообразному единству человека и природы.
Список литературы Что слышится в "беге Скифии": поэтика цикла М.И. Цветаевой "Скифские"
- Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 368 с.
- Егорова К.Б. Отголоски исторического семинара Н.П. Кондакова в творчестве Марины Цветаевой (цикл "Скифские") // Летняя школа по русской литературе. 2013. Т. 9. № 1. С. 162-173.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Прогресс: Гнозис, 1992. 270 с.
- Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: в 11 т. Т. 1: Стихотворения и поэмы 1912-1931. М.: Слово, 2003. 573 с.
- Ревзина О.Г. Безмерная Цветаева: Опыт системного описания поэтического идиолекта. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2009. 594 с.
- Созина Е.М. "Скифский текст" в творчестве поэтов Серебряного века // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2010. № 5. С. 104-109.
- Солнцева Н.М. Скифы и скифство в русской литературе // Историко-литературное наследие. Российское научное издание. 2010. № 4. С. 147-163.
- Толковый словарь Даля [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https: // dic.academic.ru /dic.nsf/enc2p/262058 (дата обращения: 20.07.2019).
- Фокина С.А. Коммуникативные стратегии М. Цветаевой в контексте авангардной эстетики (на материале лирических циклов 1920-х гг.) // Дергачёвские чтения - 2011. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Т. 1. Екатеринбург, 2012. С. 171-180.
- Фразеологический словарь. [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https:// phrase_dictionary.academic.ru/25/ЗАВЕСТИ_ВОЛЫНКУ (дата обращения: 20.07.2019).
- Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1994. 814 с.
- Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 4. М.: Эллис Лак, 1994. 686 с.
- Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 1994. 720 с.
- Цветаева М.И. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. 640 с.
- Цветаева М.И., Пастернак Б.Л. Души начинают видеть. Письма 1922-1936 годов. М.: Вагриус, 2004. 717 с.
- Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1990. 798 с.
- Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https: //dic.academic.ru /dic.nsf/es/58278/трость (дата обращения: 20.07.2019).
- Этимологический словарь русского языка Крылова [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https: //krylov.academic.ru/590/волынить (дата обращения: 20.07.2019).