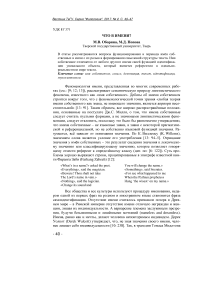Что в имени?
Автор: Оборина Марина Владимировна, Попова Мария Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы функционирования и перевода имён собственных в связи с их ролью в формировании смысловой структуры текста. Имя собственное отличается от любого другого имени своей функцией идентификации уникального объекта, который является референтом в идеально-реальностном мире текста.
Имя собственное, смысл, денотация, текст, идентификаци, звукосимволизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146122047
IDR: 146122047 | УДК: 81’371
Текст научной статьи Что в имени?
Феноменология имени, представленная во многих современных работах (см.: [9; 12; 13]), рассматривает семантическую природу лингвистического феномена, известного как «имя собственное». Дебаты об имени собственном строятся вокруг того, что с феноменологической точки зрения «любая теория имени собственного как знака, не имеющего значения, является априори несостоятельной» [13: 91]. Таким образом, все широко распространённые положения, основанные на постулате Дж.С. Милля, о том, что имена собственные следует считать пустыми формами, а не значимыми лингвистическими феноменами, следует отклонить, поскольку это было бы равнозначно утверждению, что имена собственные – не языковые знаки, а знаки с некоторой прагматической и референциальной, но не собственно языковой функцией значения. Разумеется, всё зависит от понимания значения. По К. Виллемсу (K. Willems), значением слова является условие его употребления [13: 94–5]. Отрицание значения у имён собственных – это результат сведения значения к лексическому значению или классифицирующему значению, которое позволяет говорящему отнести референт к определённому классу (цит. по: [6: 122]). Суть проблемы хорошо выражают строки, процитированные в эпиграфе известной книги Фаранга Заби (Farhang Zabeeh) [12]:
«What’s in a name?» asked the poet. «Everything», said the magician. «Beware! Thou shalt not take The Lord’s name in vain.» «Nothing», said the logician.
«Change its sound and
You will change the name.» «Something», said Socrates. «For see what happened to me When the Pythian prophetess Hung ‘the wisest’ on my name.»
Все общества и все культуры используют процедуру именования, недаром одной из первых фраз на родном и иностранном языке становится фраза самоидентификации. Отсутствие имени считалось признаком позора в Древнем мире – в Римской империи отсутствие имени отличало неграждан и женщин, лишая их индивидуальности. А варварские племена заслуживали презрения, будучи безымянными и лишёнными мечтаний (nameless and dreamless). Имена, равно как и мечты, делают человека неповторимым индивидом. Дерек Уолкот (Derek Walcott) утверждает, что, не зная значения своего имени, человек лишает себя индивидуальности [10: 238]. Так, в трагедии Томаса Мидлтона
(Thomas Middleton) «Revenger’s Tragedy» герой по имени Vindice определяет себя как мстителя ( ’Tis a good name, that. Vindice Ay, a revenger ), реализуя смысл своего имени в действии [цит. раб.: 12].
Вопрос о взаимоотношении имени и характера остаётся открытым уже много лет. Что было первым, имя, которое определило характер? Должен ли Бернард (Bernard) быть «brave as a bear»? Должен ли Szpilman уметь играть на пианино, как в этом диалоге из фильма «Пианист»:
– What’s your name?
– Szpilman.
– A good name for a pianist. (Szpilman,The Pianist, 2002) [цит. раб.: 12].
Или может быть характер предопределяет именование? А имя следует за характером? Многие имена возникали для обозначения умений или свойств их носителя. В соответствии с теорией, которая поддерживает первое предположение (имя определяет характер), отношение между именем и характером не референциальное, а каузальное: Аманда будет любвеобильна. А Дездемона – несчастна (несчастливым именем наградил её собственный отец, Брабанцио, что и было позже обыграно в трагедии Шекспира). Имя – это первый дар родителей, и оно должно быть великолепным и удачным (см. различные тому подтверждения в средневековых теориях имени) [10].
Ономастическая предопределённость особенно явственна в аллегорических текстах, таких как «Путешествие Пилигрима в Небесную страну» Джона Буньяна, где структура именований задаёт смысловую структуру текста. Но и в текстах, не прибегающих к аллегории, имя выступает как смыслообразующий элемент. Так, в повести Ч. Диккенса «Рождественская ночь» имя Эбенезе-ра Скруджа ( Scrooge ), одного из самых ярких представителей скупердяйства в мировой литературе, означает – ‘скряга’, ‘скупец’. Помимо семантики имени в именовании задействован звукосимволизм – сочетание /skr/ является общим деноминатором для таких слов в английском языке, как scramble , scrap и других, связанных со значением ‘крохоборство’. В произведении У. Коллинза «Женщина в белом» все фамилии главных героев говорящие: Хартрайт (‘честное сердце’), Глайд (‘скользкий’), Ферли (уст. ‘прекрасная’). «Оливер Твист» Диккенса – братья Cheerbys (весельчаки), «Горсть праха» И. Во – Тони Ласт (last – ‘последний’), «Незабвенная» его же – мистер Joyboy (‘весельчак, бодрячок’). Шекспировские «говорящие» имена дочерей короля Лира: Корделия (‘сердечная’), Регана (‘царственная’), Гонерилья (‘спесивая’).
Благодаря именам собственным, которые стали нарицательными или являются прецедентными, читатель может опираться на свои фоновые знания при чтении. Имя Гамлет вызывает ассоциации с сомневающимся человеком, Шерлок Холмс – с проницательным и рассудительным, Отелло – с ревнивцем.
Если имена задают идентичность героя, то смена имени должна приводить к смене лица (ср. смена имени в трудные периоды жизни – начать с чистого листа, к чему прибегают как люди, так и целые страны). Имена эндемичны языкам, тесные связи имён и слов очевидны при рассмотрении словарей нового времени. Все они включают списки имён собственных в качестве приложений или даже статейных списков. Имена, как и слова, часто требовали перевода или объяснения. Словари не указывают их значения, но дают описа- ния некоторых носителей отдельных имён. Словари не расскажут о значении имени Джон в английском языке, но сообщат об известных в истории «Джонах». Тем не менее, путаница с использованием и упоминанием в словарях имён наряду с другими словами заставляют нас подсознательно считать, что словари дают значения именам собственным. Например, имя Julian атрибутировано дважды: как «Римский император 361–363», и как «мужское имя собственное». Император Джулиан был реальным человеком, имя Джулиан ещё и просто имя собственное, оказавшееся случайно именем конкретного исторического лица. Имя не означает императора, а император не является именем (цит. по: [12: 63]).
В индоевропейских языках (в частности, в греческом) для расширения словарного состава языка используется словосложение, приводящее к комбинации или полной трансформации значений составляющих слов [7]. Этот способ служит и для образования имён, но предсказать значение имени в этом случае может быть намного сложнее. Ономастические и лексические составные слова имеют не только общие черты, что лишний раз подтверждает необходимость опираться как на общие лексические исследования, так и на те, что относятся непосредственно к имени собственному при изучении имён собственных (см. [6]). Это связано с особыми функциями имён собственных и самой процедурой именования. Имена определяют индивидов, и часто – вне прямого лингвистического контекста. Не расслышав какое-то слово, можно восстановить его значение по ситуации («the table has a broken leg» вряд ли можно понять как «the cable has a broken leg»), не так с именами: «Tim just broke a leg» можно воспринять с равной вероятностью как «Kim just broke a leg». Именно имя задаёт ситуацию и меняет её.
Мир, в котором вещи не имеют имён, был бы крайне странным. С этим сталкивается Алиса, попадая в Страну Чудес:
“This must be the wood,” she said thoughtfully to herself, “where things have no names. I wonder what’ll become of my name when I go in? I shouldn’t like to lose it at all-because they’d have to give me another, and it would be almost certain to be an ugly one” (цит. по: [12]).
Новое имя, без сомнения, будет принадлежать новой идеальной реальности, которая вполне может оказаться уродливой.
Хотя основной функцией имени собственного является идентификация индивидов, никуда не исчезает и классифицирующая функция: по полу, национальной принадлежности, семейному и социальному положению, иногда даже возрасту (например, имена детей могут меняться с возрастом и статусом). Классифицирующая функция становится смыслообразующей в художественном тексте (уменьшительные «детские» имена у взрослых людей – ср. Николка в «Белой гвардии»). При этом отдельные лингвокультуры используют разные классифицирующие функции имён.
В ономастических составных словах ведущей функцией становится не коннотативная или денотативная, а идентифицирующая, полагающая существование. Так называемые иррациональные имена творят, придумывают. Они не описывают свойства и характеристики называемого, они определяют его как уникального индивида, иногда указывая на его роль в той или иной социальной группе.
Использование имён собственных в художественном тексте изучается в поэтонимике (в английском языке существует термин poetymology [10: 38]). Поэтонимика – это направление исследований, изучающих функционирование собственных имён в художественных произведениях [2–5]. Предметом исследования становятся как отдельные произведения и идиостили, так и общетеоретические вопросы. Описательные работы исследуют собственные имена художественных текстов как систему, способы и приёмы включения в текст по-этонима. Поэтонимы выполняют в тексте функцию формирования эпохи [3: 7]. В трилогии романов Л.Н. Толстого «Хождение по мукам» использовано большое количество поэтонимов: названия учреждений и организаций, союзов и партий («Союз защиты родины и свободы», «Временное правительство» и др.), наименования воинских группировок и подразделений (Добровольческая армия, Усольский полк...), названия гостиниц, кинотеатров, ресторанов (Смольный, «Версаль», «Красные бубенцы»...), названия органов периодической печати («Слово народа», «Русские ведомости», «Русское слово» и др.).
Следует различать з н ач е ни е имени собственного (возможность быть использованным для уникальной референции одного и того же объекта, а следовательно – индивидуации носителя имени так, чтобы служить описанием, оценкой, регистрацией, номинацией и т.п.); но с ителя имени, существующего в разных онотологических качествах; уникальные свойства этого носителя имени; и к о ннотац ию имени, т.е. возможность для слушающего (читающего) акцидентально построить ассоциацию имени и его носителя при употреблении имени (примеры в литературе). Разделение на коннотативные и денотативные имена восходит к Джону Стюарту Миллю [12: 21]. Для Милля, если любое имя, данное объекту, несёт информацию, то это значение основано не на том, что обозначается (денотируется), но на том, что коннотируется. В отличие от этого, имена собственные ничего не коннотируют, и, строго говоря, не являются сигнификатами. Имена собственные определяют (денотируют) индивидов, но при этом не несут коннотативной информации (являются авторефе-рентными).
Учитывая, что говорящим на языке важно идентифицировать, определить и отличить референт как уникальный, вне зависимости от того, что это за референт, язык предлагает разные средства реализации этих целей. Так, в английском языке можно найти четыре типа выражений, задающих уникальность референта: указательные, личные и безличные местоимения единственного числа, определительные описания, имена собственные. Последние отличаются от всех остальных типов, поскольку реализуют функцию выделения особым образом. Три грани имени собственного – идентификация, отнесение и выделение – тесно связаны между собой. При этом одна из граней может доминировать. Если какой-то объект действительно представляет интерес сам по себе, а не как класс, он получает личное имя. Например, мы не именуем каждую тучку на небе, но если она превращаетс в ураган, то он получает имя (например, «ураган Дора»). Следовательно, если какой-то объект имеет имя, значит он заинтересовал кого-то настолько, чтобы стать именем, которое в будущем может использоваться референтно. В остальных случаях для классифицирования используются местоимения.
Рассмотрение имён собственных не зависит от онтологического статуса референта имени. Это может быть как мифическое существо, так и герой сказки или романа. Поэты, по словам Шекспира, склонны наделять эфемерные образы значением и существованием. У.В.О. Куайн так объяснял это на примере имени «Цербер»:
«... сохраняется тенденция подразумевать некую неопределённую сущность под словом Цербер , например, чтобы слово не потеряло своего значения. Если бы слово Цербер было бессмысленным, это лишило бы поэзию её инструментов, и более того, простые фактические утверждения, что нет на свете такого объекта как Цербер , тоже стали бы бессмылсенными. ... Цербер остаётся значимым, несмотря на то, что не именует какой-то реальный объект ... Некоторые осмысленные слова, которые с точки зрения грамматики являются именами собственными, в частности Цербер , не называют никакой объект» (цит по: [12: 59]).
Из этого следует, что для того, чтобы быть настоящим, имя должно стать чем-то вроде ребуса, загадки. Цербер все же именует нечто - например, трёхголового пса, сторожащего адские глубины в классической мифологии. Нельзя согласиться с утверждением, что имя собственное непременно должно обозначать нечто, что имеет существование в пространстве и времени (это может быть например, идеальное несуществование - см.: [1]). Имя Зороастр -это тоже имя, несмотря на то, что возможно человека с таким именем никогда не существовало, и лишь предрассудок требует от имени, чтобы оно непременно определяло объект в плане места и времени. Таким образом, имена идеальной действительности живут по своим законам.
Имена собственные, данные людям и объектам, могут сказать нам многое о намерениях именующего. Пуританские переселенцы Америки давали своим детям такие имена, как Ashes , Tribulation , The Lord is near , Praise-God Barebones , и if-Christ-had-not-died-for you-you-had-been-damned-Barebones (впо-следствие к счастью, сокращённое до Damned Barebones ). Найдёныши удостаивались у них таких имён, как Helpless, Lament, Misericordia, Adulterina . Всё это недвусмысленно характеризует пуританские ценности.
-
Н. Готторн называет своих героев Pearl (‘жемчуг’) и Dimmesdale (‘сумрачная долина’), заставляя читателя ожидать от них определённых поступков, соответствующих таким именам. И это не просто вывод из значений слов или характеристики носителей имени, это механизм создания смысловой структуры всего текста. В одном из эпизодов героиня повести Н. Готторна «Алое письмо», Эстер, умоляет Димсдейла отказаться от своего имени и выбрать себе другое, возвышенное, которое можно будет носить без стыда и страха. Иногда писатели, как родители, выбирают для своих героев звучные значимые имена с разными оттенками значения: Эрнест (похвала честности), Мердстоун (унижающее имя) у Диккенса; символические имена ( Годе ) или просто звукосочетание ( Лулу ). Имена собственные с позиции носителя имени и именователя порождают разные смыслы. О том, как имя становится источником смысла, говорится в «Алисе в Стране Чудес»:
«What's the use of their having names,» the Gnat said, «if they won't answer to them?» «No use to them,» said Alice, «but it's useful to the people that name them, I suppose. If not, why do things have names at all?» (цит. по: [12: 66])
Анализ использования имён собственных в политическом дискурсе, в частности, показывает структурирующую функцию имён собственных: повторение в рамках одного текста, как публицистического, так и художественного, одних и тех же имён собственных определяет процедуру восстановления смысла текста читателем [11]. В процессе восприятия выделяются три типа: упоминания (mentions), контекст (contexts) и гипотезы (hypothesis), которые последовательно задействуются при упоминании имени собственного в тексте. При первом упоминании имя воспринимается как отдельный элемент текста, читатель должен опираться при этом на свои фоновые знания (свой «горизонт»). Далее имя собственное рассматривается в рамках того текста, в котором оно находится. На третьем этапе восприятия производится логическое умозаключение о смыслах и значении имени собственного, основанное как на фоновых знаниях, так и на контексте, делаются выводы об использовании этого имени собственного. В частности, политические имена собственные President Bill Clinton ... the Clintons.... Hilary , U.S. President Bill Clinton.... Clinton.... Mr. Clinton.... President Clinton , используемые в рамках контекстов, образуют смысловую сетку, формирующую общую картину восприятия. Определённый набор имён собственных в одном тексте имплицирует связи между объектами, стоящими за этими именами. Этот приём широко используется в публицистической литературе (context depending proper names) [11: 11].
Имена собственные как автореферентные слова всегда представляли переводческую проблему (см.: [8; 12]). К ним можно относиться как к непереводимым и, следовательно, не принадлежащим какому-то одному языку. Вместе с тем они подлежат транслитерации. Если имя собственное используется не только для референции, которая идентифицирует уникального носителя имени, но также для того, чтобы охарактеризовать его, тогда переводчик, скорее всего, переведёт эти именующие выражения. Так, некоторые клички Shorty (Коротышка) в отличие от Bobby или названия романов «Great Expectations» в отличие от Ulysses требуют перевода, так как являются описательными. Вместе с тем, часто имена собственные сегодня используются только как средства идентификации, даже если изначально они выполняли описательную функцию. Так, имя Стюарты , которое когда-то означало ‘stywards’ – ‘свинопасы’, давно утратило связь с этой профессией. А имя Plato ( Платон ), когда-то именовавшее великого мыслителя, было дано ему в качестве клички учителем физкультуры за «широкую кость». В художественных текстах имена часто даются объектам не для того, чтобы их идентифицировать. Даже звуки имени могут стать значимыми, например, для определённой рифмы; таким образом, переводчику нужно сохранить эти функции имени собственного для сохранения смысловых структур текста в авторской интенции.
Имя Хайям не переводится, если оно используется для указания на известного персидского поэта, но в приводимом катрене, сам Омар Хайям пишет о себе:
Khayyam, who stitched the tents of science,
Has fallen in griefs’ furnace and been suddenly burned,
The shears of Fate have cut the tent ropes of his life, And the broker of Hope has sold him for nothing!
(перевод Эдварда Фицджеральда, цит. по: [12: 69]).
Автор использует имя и как имя, и как описание, реализуя возникающую в связи с этим игру слов. Следует сказать, что персидское Khayyam означает «tent-maker», что и стало авторским псевдонимом поэта как дань родовому занятию. Эта информация должна быть непременно дана переводчиком. Подобные примеры игры слов с участием имён собственных часто встречаются у Шекспира, подтверждая способность имени собственного участвовать в смыслообразовании помимо называния [10]. Так, в комедии «Сон в летнюю ночь» феи получают звучные и полные коннотаций имена, такие как Peaseblossom , Mustardseed , Moth . Чтобы передать в переводе интенцию автора в выборе таких имён для героев и сохранить игру слов с участием имён собственых, эти имена приходится переводить.
Имена в текстах лимериков не относятся к определённому лицу или месту (если только случайно), а функционируют как логические переменные, хотя их фонетическое оформление может иметь значение. Так, в строчках «There was an old fellow called Brown ...» или «There was an old man of Cape Horn – who wished he had never been born» имена Brown и Cape Horn не относятся к определённому лицу или месту, вместо них с тем же успехом можно было бы использовать любые другие.
Вывод – имена собственные, как и другие языковые выражения, могут использоваться с разными целями. Тем не менее, чтобы избежать двусмысленности, следует обращать внимание на функцию имён собственных, a не только на внешнюю грамматическую структуру. Имя собственное является тем, чем оно является, не вследствие своей грамматической структуры, а вследствие той функции, которая приписывается говорящим данному выражению. Имена собственные, так же как и местоимения, могут использоваться для референции, однако в отличие от местоимений, которыми могут пользоваться разные говорящие для обозначения разных объектов по разным поводам, имена собственные, как и дескрипции, в любой ситуации обозначают одно и то же лицо / феномен. Если имя собственное используется как определение, оно теряет свою функцию индивидуации объекта. Имя собственное превращается в нарицательное, если из-за установившейся связи с носителем имени становится обозначением свойств этого носителя. В художественных текстах (и не только) имена собственные выполняют функцию индивидуации художественного мира текста, полагая его существующим.
Список литературы Что в имени?
- Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику . URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/bogin_obretenie/(дата обращения: 09.04.2017).
- Буевская М.В. Поэтонимосфера художественного текста. Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. 286 с.
- Калинкин В.М. Теоретические основы поэтической ономастики: автореф. дис.... докт. филол. наук. Киев, 2000. 37 с.
- Калинкин В.М. От литературной ономастики к поэтонимологии//Логос ономастики. 2006. № 1. С. 81-89.
- Лоскутова Е.Н. Суггестивное воздействие и лингвокультурологический потенциал поэтонимов (на материале произведений М.А. Шолохова): дис.... канд. филол. наук. Москва, 2016. 253 с.
- Anderson, J.M. The grammar of names Oxford University Press. 2007. 388 p.
- Greek personal names. Their value as evidence//ed. S. Hornblower, E. Matthews Procedimgs of the British Academy. Oxford university press, 2000. 193 p.
- Hermans, Th. On Translating Proper Names, with reference to De Witte and Max Havelaar//M.J. Wintle (ed.). Modern Dutch Studies. Essays in Honour of ProfessorPeter King on the Occasion of his Retirement. London, Atlantic Highlands: The Athlone Press, 1988. Pp. 1-24.
- Jackson, F. Language, names and information Wiley-Blackwell, 2010. 172 p.
- Maguire, L. Shakespeare’s Names . Oxford University Press, USA. 2007. 256 p.
- Mani I., Macmillan T. R., Luperfoy S., Lusher E. P., Laskowski Sh. J. Identifying Unknown Proper Names in Newswire Text. . URL: http://acl-arc.comp.nus.edu.sg/archives/acl-arc-090501d4/data/pdf/anthology-PDF/W/W93/W93-0105.pdf (accessed at 8.04.2017).
- Zabeeh, F. What is in a name. An inquiry into the semantics and pragmatics of proper names Den Haag, Martinus Nijhoff. 1968. 83 p.
- Willems, K. Form, meaning, and reference: a phenomenological account of proper names//Onoma. 2000. Vol. 35. Pp. 85-119.