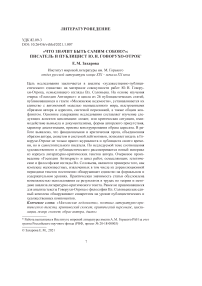"Что значит быть самим собою?": писатель и публицист Ю.Н. Говорухо-Отрок
Автор: Захарова Елизавета Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования заключается в анализе «художественно-публицистического единства» на материале совокупности работ Ю.Н. Говорухи-Отрока, осмыслявшего взгляды Вл. Соловьева. На основе изучения очерка «Господин Антихрист» и цикла из 26 публицистических статей, публиковавшихся в газете «Московские ведомости», устанавливается их единство с автономной моделью вымышленного мира, выстроенными образами автора и адресата, системой персонажей, а также общим конфликтом. Основное содержание исследования составляет изучение следующих аспектов циклизации: сюжет, или критическая ситуация, взаимодействие вымысла и документализма, формы авторского присутствия, характер диалогизации, приемы конструирования образа адресата. В работе выявлено, что фикциональная и критическая проза, объединенная образом автора, сюжетом и системой лейтмотивов, позволяет видеть в Говорухе-Отроке не только яркого журналиста и публициста своего времени, но и самостоятельного писателя. По исследуемой теме соотношения художественного и публицистического рассматривается новый материал из корпуса литературно-критических текстов автора. Очерковое произведение «Господин Антихрист» и цикл работ, осмысляющих эстетические и философские взгляды Вл. Соловьева, являются примером того, как комплекс малоизвестных, извлеченных в том числе из дореволюционной периодики текстов постепенно обнаруживает единство на формальном и содержательном уровнях. Практическая значимость статьи обусловлена возможностью использования ее результатов в трудах по теории и методике анализа литературно-критического текста. Ранее не привлекавшиеся для анализа тексты Говорухи-Отрока о философии Вл. Соловьева как единый комплекс обнаруживают синкретизм на уровне публицистических и художественных компонентов.
Короткий адрес: https://sciup.org/146282279
IDR: 146282279 | УДК: 82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.007
Текст научной статьи "Что значит быть самим собою?": писатель и публицист Ю.Н. Говорухо-Отрок
Ю.Н. Говорухо-Отрок: роли литературного критика
«Скромный летописец», «Никто», «Старый литератор», «Ненужный человек», «Vox», «а-ъ», «Ю. Николаев», «Юрко», «Ю. Елагин» – вот лишь некоторые псевдонимы лучшего, по словам В.В. Розанова, критика 90-х годов XIX века Ю. Н. Говорухи-Отрока. Его многочисленные литературные заметки, рецензии и журнальные статьи сосредотачивались на актуальных вопросах культурной и общественной жизни. Публицистические же работы о славянофильстве, культуре и цивилизации, писателях-классиках впоследствии образовали циклическое единство.
В сознании современников Юрий Николаевич Говорухо-Отрок (1854–1896), литературный критик и публицист, один из ведущих сотрудников и обозревателей газеты «Московские ведомости», занимал особую нишу. О прижизненном восприятии не только написанного автором, но и этапов его биографии и творчества дает широкое представление книга «Памяти Говорухи-Отрока». Сборник, вышедший в 1896 году, был подготовлен коллегами и близкими людьми: В. В. Розановым, Л. А. Тихомировым, священником Фуделем и другими. Известности журналиста не препятствовал и тот факт, что на его деятельность распространялись определенные запреты в печати после осуждения по «делу 193-х» [6]. Одним из цензурных требований стал необходимый отказ подписывать газетные публикации собственным именем.
Сегодня в литературоведении сосуществуют три ветви, по которым осмысляется наследие Говорухи-Отрока: изолированно друг от друга исследуются художественное творчество [9], весь корпус текстов, относящихся к нефикциональной прозе [12], а также мировоззренческие взгляды и общественно-политическая позиция [13]. В подходе критика к искусству обозначаются специфические черты, одной из которых называют стремление найти в литературном произведении выражение «вечных ценностей». Определено, что немаловажным фактором, который оказал воздействие на формирование эстетического вкуса, ценностных установок и мировоззренческих ориентиров Говорухи-Отрока, стало энциклопедическое знание мировой и отечественной классики, текстов Священного Писания. Отмечается, что в становлении взглядов критика немаловажную роль сыграли труды философа Томаса Карлейля. Как признавался сам критик, его предшественниками и учителями были Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев и Н. Н. Страхов.
В существующих в настоящее время исследованиях, посвященных творчеству Говорухи-Отрока, нет однозначного мнения относительно того, как следует интерпретировать традицию, в которой он работал. Ю. В. Зверева считает его «одним из самых первых представителей философского направления» [5, с. 36]. В работах о литературе критик нередко затрагивает вопросы философского содержания (смысл жизни, природа человека, вечные нравственные ценности), за счет чего диалог с читателем углубляется и тематически расширяется. Критика, как отмечает З. Т. Прокопенко, становилась для Говорухи-Отрока лишь «средством для развития своего миросозерцания применительно к конкретным случаям и по поводу запросов живой деятельности» [9, с. 29]. Близким данной точке зрения следует считать подход, согласно которому Говоруха-Отрок «примыкал к христианско-почвенническому направлению мысли» [4, с. 5], а также его характеристику как представителя консервативной критики. Определение характера творческой деятельности Говорухи-Отрока с опорой на его мировоззрение дает Е. В. Иванова, говоря о том, что «именно ценности православия положены были в основу его культурного идеала. <…> подлинным искусством он считал только то, которое неразрывно связано с ним и через него – с миром иных, высших ценностей» [6, с. 65]. Следует также подчеркнуть, что взгляды критика на искусство в большой степени продолжали традицию, обозначенную А. С. Хомяковым, И. В. Киреевским, К. С. Аксаковым и другими славянофилами.
Следствием изложенных подходов стало строгое разделение деятельности литератора на не связанные между собой роли, где приоритет отдается первой: литературный критик, театральный рецензент, писатель, мыслитель, публицист. Однако однозначное обособление направлений, в которых развивалось творчество Говорухи-Отрока, препятствует широкому взгляду на совокупность им написанного. Своеобразие стилистической манеры и методологического подхода объясняется синкретическим единством каждой из выбираемых жанровых форм. Их тождество на проблемно-тематическом уровне позволяет говорить о непроизвольном формировании циклических единств.
Полемика Говорухи-Отрока и Вл. Соловьева: хронологические и текстуальные границы
Один из ключевых циклов Говорухи-Отрока – комплекс работ из 26 статей об эстетической концепции Вл. Соловьева. Протекавшая на страницах периодики, главным образом в газете «Московские ведомости», полемика критика и философа велась, кроме того, вокруг трактовки богословских и национальных вопросов, обсуждения идеи теократии и деятельности художника как теурга.
Объектом настоящей статьи являются работы, посвященные полемике Говорухи-Отрока со взглядами Вл. Соловьева. Тематическая однородность, а также ряд других признаков, сближающих несколько десятков текстов, позволяют говорить о сформированном цикле в виде «художественно-публицистического единства» [11]. Затрагивая широкую область вопросов (богословие, религия, государство, военно-политическое устройство и многие другие), материал критических реплик Говору- хи-Отрока включает в себя многочисленные этюды, объемные высказывания, обзоры, а также очерк «Господин Антихрист».
Цель статьи заключается в выяснении природы художественного в совокупности работ, где Говорухо-Отрок осмысляет взгляды Вл. Соловьева. Достижение поставленной цели обеспечивается решением ряда задач: 1) определить характер объединяющего совокупность текстов сюжета, или критической ситуации; 2) проследить аспекты взаимодействия публицистического и художественного; 3) выявить формы авторского присутствия; 4) обозначить уровень диалогизации, а также набор приемов конструирования образа адресата. Методологической основой данного исследования являются работы, посвященные поэтике литературного текста [14], помогающие ответить на вопрос о художественности публицистических текстов и переходных жанровых форм.
Вл. Соловьева и Говоруху-Отрока как литературных критиков объединяет факт принадлежности к религиозно-философскому направлению. Многие современники подчеркивали, что Говорухо-Отрок придерживался строгой системы мировоззренческих принципов, основанных на православном вероучении: именно следование основам религиозного мировоззрения определяло всю его профессиональную деятельность. История взаимоотношений Соловьева и Говорухи-Отрока точнее всего характеризуется как длительный полемически окрашенный диалог. Затронутые в одних статьях темы позднее развернуто постулировались в других, следствием чего стало формирование цикла, объединенного содержательно, а затем и структурно, в посмертных изданиях наследия критика.
Благодаря неоднократному обращению Говорухи-Отрока на протяжении 80–90-х годов XIX века не только к совокупности идей Вл. Соловьева, но и к самой личности философа можно говорить о постепенно формирующемся образе критического «персонажа» [3, с. 35]. Оппонент трансформируется в фигуру, образ которой конструируется на протяжении многих критических высказываний. Позиция Соловьева, а главное – способ ее изложения, считает Говорухо-Отрок, чрезвычайно заразительны. Именно поэтому критик так горячо желает оспорить харизматично отстаиваемые взгляды. Но именно в этом феномене заразительности и скрывается желание Говорухи-Отрока вступить в непримиримую полемику.
Его цель состоит в ограждении как можно большего числа потенциальных последователей от данной философской системы, а также в попытке разубедить многих ее апологетов. Работы объединяются благодаря общности и неизменности конфликта. Как в разговоре о литературных произведениях, так и в критическом разборе творческого наследия Вл. Соловьева Говоруха-Отрок в качестве основной задачи ставит познание человека. Интерес критика всегда располагается в области душевного устроения литературного персонажа или автора анализируемого текста. Из отдельно же встречающихся в разных фрагментах статей словосочетаний можно составить представление о личном отношении Говорухи-Отрока к разбираемому кругу проблем: «сущность пропаганды г. Соловьева» [2, с. 373] (впервые: Московские ведомости. 1890. 28 апр. № 115. С. 3–4), «г. Соловьев <…> один из эпигонов Чаадаева» [Там же, с. 474] (впервые: Московские ведомости. 1891. 12 окт. № 282. С. 3–4), «удивительно, как г. Соловьев, при его уме, не понимает, что его положение глубоко комическое, как положение всякого человека, сидящего между двух стульев. Его идеал иной, чем идеал его союзников, на что я уже не раз имел случай ему указывать» [Там же, с. 450] (впервые: «Московские ведомости». 1891. 9 марта. № 67. С. 4–5).
Через включение в полилог о «чаадаевском деле» и западничестве [Там же, с. 378] нить рассуждений Говорухи-Отрока в цикле движется к смысловому ядру: вопросу о национальности в целом и существовании самобытного искусства в частности. Здесь оспаривается следующий тезис Соловьева: «современный упадок нашей литературы свидетельствует о том, что она вообще не может претендовать на название национальной и самобытной» [Там же, с. 387] (впервые: «Московские ведомости». 1890. 5 мая. № 122. С. 3-4).
Эстетическое как предмет дискуссии
В исследовательских трудах по теории критики содержится единодушное мнение о том, что данный вид литературного творчества представляет собой творящую смыслы эстетическую деятельность. А потому закономерно при анализе конкретных литературно-критических суждений говорить о содержащихся в них невымышленных сюжетах «развития литературы, какой-то одной из ее тенденций» [3, с. 34]. Наименее разработанной в работах о специфике литературной критики является проблема сюжета. Сложность в выявлении данной категории заключается в самой природе этого вида литературной деятельности, в ее пограничном положении между наукой, литературно-художественным творчеством и публицистикой. Для определения сюжета, категории, обозначающей «художественно построенное распределение событий» [14, с. 181], представляется необходимым выявить в структуре критической статьи событие, а именно «происшествие – значимое отклонение от нормы» [8, с. 283].
О заложенном в сюжете критической статьи вопрошании, которое призван разрешать критик, говорит А.М. Штейнгольд. Она утверждает, что «поскольку цель критика – убедить читателя в правоте своих суждений об искусстве и мировоззренческих построений, возникающих в связи с художественным произведением <…> сюжет критической статьи можно рассматривать как решение проблемной ситуации: восприятие и истолкование искусства слова в особого рода диалоге с читателем-современником» [14, с. 117].
О художественности цикла справедливо говорить из-за разворачивающейся в нем единой критической ситуации. Но важно иметь в виду, что сюжет пересекает границы публицистики в 1891 году, когда Говору-хо-Отрок в разделе маленьких заметок «Московских ведомостей» публикует очерк «Господин Антихрист». Конфликт и проблематика обобщают ранее высказывавшиеся Говорухой-Отроком мысли относительно взглядов Вл. Соловьева об искусстве. Очерк ставит акцент на эстетической стороне полемики, а также на идее теургии.
Как отмечают исследователи, В. С. Соловьев «сознательно занял позицию <…> промежуточных, “религиозно-эстетических” концепций, восходящих к В. Ф. Одоевскому, П. Я. Чаадаеву, А. А. Григорьеву и Ф. М. Достоевскому, призванных примирить крайние точки зрения в эстетике через синтез их сильных сторон, соединить две основные линии (материалистическую и идеалистическую) в русской эстетике» [15, с. 33]. Артистическая теория была неприемлема для Соловьева, который «считал конечным итогом этой деятельности изменение действительности» [Там же, с. 34, 44].
Короткое двухчастное произведение «Господин Антихрист» (впервые: «Московские ведомости». 1891. 23 дек. № 354. С. 2–3) повествует о том, как Иван Иванович Антихрист неожиданно посетил рассказчика, сотрудника редакции, уставшего от непрестанного наблюдения за событиями в журналистике своего времени. В завязавшемся разговоре герои обсуждают злободневные вопросы журналистики, а также процесс поиска единомышленников Антихриста среди В. А. Гольцева, Н. Я. Грота, Н. К. Михайловского, Вл. Соловьева. Из диалога выяснилось, что только последний из «представителей печати» [1, с. 732] откликнулся на идею «всем соединиться во имя “прогресса человечества”, во имя “братства, равенства, свободы”, во имя альтруизма и гуманности» [Там же, с. 732]. По словам «господина Антихриста», с Вл. Соловьевым они «давнишние приятели» [Там же, с. 735], что отражается во многих идеях философа.
Ироничный тон посвященных Вл. Соловьеву статей недвусмысленно говорит об абсолютном неприятии Говорухой-Отроком рассматриваемой философской программы: «Все серьезные люди давно поняли, что даровитый наш философ всего только “балуется”; однако есть многие, видящие в этом баловстве что-то значительное, и вот для них-то стоит хотя слегка разобраться в этом деле» [2, с. 362] (впервые: «Московские ведомости». 1890. 14 апр. № 101. С. 4–5). Благодаря смешению в «Господине Антихристе» элементов вымысла с главной авторской интенцией выявить несостоятельность взглядов Вл. Соловьева в очерке размываются границы между публицистическим текстом и рассказом как жанрами малой прозы. И под прицелом здесь в завуалированном виде находится вся эстетическая концепция философа.
Формальное выражение авторского присутствия
В десятках статей («Чему же учит Вл. Соловьев?», «Наши “уличные философы”. По поводу статьи г. Вл. Соловьева “Письмо редактору”», «Что значит быть самим собою?», «Христианство без христиан. По поводу статьи Вл. Соловьева “Идолы и идеалы”» и др.) Говоруха-Отрок главным образом выступает против одной из центральных идей Вл. Соловьева – «единства человечества» [Там же, с. 367]. Неоднократно суждения самого критика принимают вид афоризмов и онтологических максим: «Наш грех, что мы в историческом ходе нашего развития оторвались от источника своего просвещения, от Церкви Православной» [Там же, с. 372–373] (впервые: «Московские ведомости». 1890. 28 апр. № 115. С. 3–4). «Все мы религиозны по привычке, по воспитанию, и все мы не даем себе труда осмыслить нашу религиозность, нашу веру» [Там же, с. 527] (впервые: «Московские ведомости». 1891. 21 нояб. № 332. С. 4–5); «утратив способность жить духовною жизнью, человек уже живет без догмата, без закона, поставив себе законом лишь душевную жизнь свою, ничем не направляемую и ничем не просветляемую» [Там же, с. 557] (впервые: «Московские ведомости». 1894. 12 мая. № 129. С. 3–4). Но важно увидеть за этим кажущимся уходом от литературной критики на философское поле единство однажды избранного метода.
Существенно, что иные художественные произведения Говорухи-Отрока, среди которых следует отметить рассказы «Эпизод из ненаписанного романа» и «Fatum», создавались с большой долей автобиографизма, так как героями становились участники революционного движения. «Господин Антихрист» в наибольшей степени демонстрирует процесс, при котором происходит размывание границ между критиком и писателем. В тексте, затрагивающем проблемы полемики между двумя мыслителями, на первый план выходит собственный эстетический мир. Эмпирическая ситуация, а именно последовательное опровержение взглядов Вл. Соловьева, изображается так, «как если бы она была событием эстетического порядка» [11, с. 49]: «Это случилось на днях. Я сидел у себя в кабинете и размышлял о разных современных явлениях» [1, с. 729]; «вошел молодой человек, в высшей степени приличный, прилично одетый, с совершенно незначительною физиономией. Он шаркнул ножкой и попросил извинения» [Там же, с. 729].
В очерке Говорухо-Отрок скрывается под маской доверчивого рассказчика. Можно говорить о возникновении здесь наряду с «эстетическим миром-двойником» [10, с. 60] двойника самого критика: «Я принужден следить за современностью, я принужден следить за всем, что пишут бесчисленные борзописцы» [1, с. 728]; «До сих пор не знаю: сон ли это, бред ли, действительность ли… Непременно надо сделать об этом “случае” доклад в Психологическом обществе» [Там же, с. 738]. Стиль
Говорухи-Отрока отличают открытость и прямота в изложении собственной точки зрения. Спектр тонов, в которые окрашены полемические высказывания в рассматриваемом цикле, варьируется от эмоционально-дидактического до остросатирического.
О моментах неприятия философской системы в корпусе работ о Вл. Соловьеве критик заявляет безапелляционно и предельно откровенно: «Вся ошибка г. Соловьева в том, что под христианством он подразумевает католицизм» [2, с. 365]; «Пусть, наконец, г. Соловьев вспомнит, что “вселенская идея”, на которую он так любит ссылаться, провозгласила “единение в духе и истине” равных между собою людей, а никак не механическое объединение, отрицающее национальность и заключающееся в сглаживании всего живого, всего яркого, всего оригинального» [Там же, с. 367]. Каждое посвященное Вл. Соловьеву суждение пронизано личным отношением автора к объекту высказывания особенно в эпизодах, где речь касается душевно-духовного устроения самого философа.
Критик лаконично формулирует основные тезисы, которые формулирует Соловьев как в своих прозаических, так и в стихотворных текстах: «отсутствием <…> идеи теократии, г. Соловьев объясняет существующее в Восточной Церкви, по его мнению, внутреннее разъединение и несогласие, откуда, думает он, проистекает и бездейственность начал, заключенных в этой Церкви. Восстановление этого единства и согласия г. Соловьев видит в усвоении Церковью Восточною только что перечисленных преимуществ Церкви Западной, а самое лучшее – в соединении с Церковью Западною на почве взаимных уступок» [Там же, с. 363]. Гово-рухо-Отрок резко выступает против идеи Вл. Соловьева о теократии по причине того, что под этим явлением скрывается «традиционное папское стремление к светской власти, в чем ни таинственного, ни возвышенного ровно ничего нет, а есть лишь принижение и опошление идеи Церкви Вселенской» [Там же, с. 364]. Взгляды самого критика на протяжении всего цикла транслируются в большинстве случаев апофатически и в завуалированной форме. И представление о позиции и его ценностных ориентирах становится более ясным при комплексном рассмотрении всех вошедших в цикл высказываний.
Риторическая природа критики и аспекты диалогизации
Форма изложения в очерке, как и в большинстве публицистических текстов автора, отличается повышенной диалогичностью. Этот эффект возникает из-за выстроенного в диалоговой форе повествования, а также общей вопросительной интонации с подтекстовой коммуникацией с адресатом. И здесь важно подчеркнуть риторическую природу данного текста благодаря факту принадлежности к публицистическому жанру [7].
Авторская интенция состоит в том, чтобы убедить читательскую аудиторию в ошибочности философских взглядов Вл. Соловьева относительно концепции теургии. Так, из слов господина Антихриста выясняется, что труд Вл. Соловьева «Национальный вопрос» и реферат «О причинах упадка средневекового миросозерцания» были написаны ими совместно. Посетитель, имя которого определило заглавие очерка, не без сарказма рассказывает об одном из своих визитов к философу: «Он над какой-то чашкой стоит, что-то шепчет, руками машет, вроде, как гипнотизер. <…> “Теургией, – говорит, – занимаюсь: на кофейной гуще гадаю, а ты, говорит, болван, чуть было всему не помешал. Мне до зарезу к январской книжке “Вестника Европы” пророчество нужно…”» [1, с. 735–736]. В очерке отсутствует последовательный пересказ основных положений философии, однако сумма ранее написанных Говорухой-Отроком статей однозначно говорит об оценке.
Диалогизм и контекст очерка углубляются посредством аллюзий и непрямых цитат различных художественных текстов. Так, уже заглавие косвенно указывает на рассказ Ф. М. Достоевского «Господин Прохар-чин», а в дальнейшем литературный контекст расширяется все больше: «Он сел, загнув ножку за ножку, подобно Павлу Ивановичу Чичикову» [Там же, с. 735–729]; «но тут во мне сказался дух Кит Китыча» [Там же, с. 731]; «Помнишь, у вашего Достоевского – “Великий Инквизитор”?» [Там же, с. 737]. Обильное цитирование усиливает образность текста, насыщает его художественными компонентами.
Таким образом, анализ статей, где поводом для высказываний Говорухи-Отрока стала философская программа Вл. Соловьева, в совокупности с очерком «Господин Антихрист» позволяет сделать вывод об их циклическом единстве. Вопрос об эстетическом, а именно о теургии, на содержательном уровне сблизил изначально разнородные как по жанру, так и по хронологии тексты. Структурно же цельность десятков работ обеспечивается общностью формального выражения авторского присутствия, а также способом построения диалога. На процесс формирования самостоятельного художественно-публицистического явления повлияло и многократное обращение критика к идеям Вл. Соловьева вместе с фактами его биографии. Равноправное сосуществование в рассмотренных литературно-критических текстах элементов вымысла и публицистики в качестве результата дает формально-содержательный синкретизм, а кроме того, размывание границ между жанрами и авторскими ролями литератора.
Заключение
В литературоведении традиционно выделяют критику писательскую и профессиональную. Большинство литераторов XIX–XX вв. выступали с рецензиями и краткими откликами о текущей литературе. Однако до сих пор отсутствует единодушный ответ на вопрос о рассмотрении критики как литературы и трансформации сферы деятельности критика в область писательского мастерства. Строгое разделение сфер, в которых в свою очередь развивалось творчество Говорухи-Отрока, не является полноценным восприятием его стилевых и методологических установок. Критик не просто расширяет собственный жанровый диапазон, обращаясь к художественным формам, но и транслирует единый образ автора с корпусом проблем и приемов, стилистических средств. И неизбежно возникает взаимопроникновение публицистики и художественной литературы, синкретизм эстетического и документального. Можно поэтому говорить об одном из аспектов существования философской прозы, когда в работах о Вл. Соловьеве критик создает собственный уникальный мир с героями, сюжетом, языком.
Автор монографии «Литературно-художественное творчество В.С. Соловьева в контексте русской словесности второй половины XIX века» утверждает, что Вл. Соловьев стал основателем религиозно-философской критики рубежа XIX–XX веков и приводит перечень отличающих направление принципов [16, с. 401]. Другой исследователь, Ю. В. Зверева, считает литературно-критическую деятельность Ю.Н. Говорухи-Отрока близкой религиозно-философской ветви [5]. Общим мнением стала мысль о том, что «религиозно-философское направление в критике конца XIX – начала XX века не имело своего явного лидера, который бы сформулировал бы общую программу и заявил о новом методе анализа художественного текста» [16, с. 400].
Очерковое произведение Говорухи-Отрока «Господин Антихрист», в частности, и цикл работ критика, осмысляющих эстетические взгляды Вл. Соловьева в целом, являются примером того, как изначально не задумывавшиеся самим автором тексты постепенно обнаруживают формальное и содержательное единство. Циклическое единство вбирает в себя и публицистические, и художественные черты, демонстрируя автономность выстроенного мира с самостоятельным набором черт: образ автора и адресата, система персонажей, сюжет и конфликт.
Список литературы "Что значит быть самим собою?": писатель и публицист Ю.Н. Говорухо-Отрок
- Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?: литературная критика и религиозно-философская публицистика : в 2 т. Т. 2. СПб. : Росток, 2012. 1085 с.
- Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея. М.: Институт русской цивилизации, 2015. 768 с.
- Говорухина Ю. А. Критика как литература // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 7 (188). Филология. Искусствоведение. Вып. 41. С. 32–37.
- Гончарова О. А. Русская литература в свете христианских ценностей : (Ю.Н. Говоруха-Отрок – критик). Харьков : Майдан, 2006. 163 с.
- Зверева Ю. В. Философская критика 90-х годов XIX века (на материале статей Ю.Н. Говорухи-Отрока и А. Л. Волынского : дис. … канд. филол. н. : 10.01.01 / Ю. В. Зверева ; Пермский гос. ун-т. Пермь, 2006. 171 с.
- Иванова Е. В. Ю.Н. Говоруха-Отрок: судьба и идеи // Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?: литературная критика и религиозно-философская публицистика : в 2 т. Т. 1. СПб. : Росток, 2012. С. 5–76.
- Каминский П. П. Жанровые формы публицистики С. Залыгина, В. Астафьева и В. Шукшина: проблемы типологии // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2012. № 4 (20). С. 136–145.
- Лотман М. Ю. Структура художественного текста. М. : Искусство, 1970. 384 с.
- Прокопенко З. Т. Ю. Н. Говорухо-Отрок : Критико-биографический очерк // Говоруха-Отрок Ю.Н. Собрание сочинений. Т. 1. Рассказы. Пьеса. Белгород: Шаповалов, 2005. С. 5–36.
- Прохоров Г. С. Организация повествования в художественно-публицистическом произведении // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2012. Т. 12. № 2. С. 57–61.
- Прохоров Г. С. Что такое «художественная публицистика»? // Новый филологический вестник. 2012. № 3 (22). С. 44–52.
- Смолина (Кокшенева) К. А. Ю. Н. Говоруха-Отрок и задачи консервативной литературной критики // Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX – начала XX в. / Ин-т мировой литературы им. М. Горького. М., 2001. С. 176–210.
- Хатунцев С. В. Жизненный путь и идейные взгляды Ю. Н. Говорухи-Отрока // Христианское чтение. 2014. № 5. С. 99–111.
- Штейнгольд A. M. Анатомия литературной критики : (Природа, структура, поэтика). СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. 200 с.
- Юрина Н. Г. Литературно-критическая концепция В. С. Соловьева: истоки, становление, развитие. Саранск : Мордовский гос. ун-т, 2013. 279 с.
- Юрина Н. Г. Литературно-художественное творчество В. С. Соловьева в контексте русской словесности второй половины XIX века (эстетика, поэтика, стиль). Саранск : Мордовский гос. ун-т, 2019. 548 с.