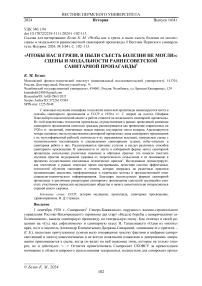"Чтобы нас в грязи, в пыли съесть болезни не могли": сцены и модальности раннесоветской санитарной пропаганды
Автор: Белик К.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Институты и режимы научного знания
Статья в выпуске: 1 (64), 2024 года.
Бесплатный доступ
С помощью изучения специфики технологий советской пропаганды анализируются места и способы санитарного просвещения в СССР в 1920-е гг. С опорой на подход Штефана Плаггенборга аналитический акцент в работе ставится на модальности санитарной пропаганды. Из этой перспективы технология пропаганды, осуществляемая в рамках проводимой кампании санитарного просвещения советских граждан, рассматривается как проявление современных на 1920-е гг. тенденций, отвечающих новым нормам государства эпохи модерна. Анализируются четыре основных места осуществления санитарной пропаганды: дома санитарного просвещения с их мультиформатной работой, агитпоезда и их передвижные выставки, театральные сцены с гигиеническими постановками и специальными санитарными судами, избы-читальни и санитарная работа в них. Рассматриваются причины успехов и неудач различных способов санитарного просвещения. В зависимости от места и избираемой формы метод санитарной пропаганды использовал различные языковые и образные приемы: это помогло сместить изучение практик поддержания здоровья от теоретического осмысления к их пониманию в процессах осуществления ежедневных человеческих практик2. Исследование демонстрирует, как постепенно в раннее советское время выстраивалась целостная система эффективных технологий обучения санитарии и гигиене, которая опиралась на различные практики медикализации населения, перформативные и творческие методы и предшествующий опыт социально-политического информирования. Благодаря используемым формам санитарной пропаганды и различным репертуарам санитарного просвещения советский трудящийся смог стать участником процессов медикализации общества и начать самостоятельно интересоваться охраной своего здоровья.
Ссср, история медицины, пропаганда, санитарное просвещение, здравоохранение, и. д. страшун
Короткий адрес: https://sciup.org/147246513
IDR: 147246513 | УДК: 340.1.94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-1-102-113
Текст научной статьи "Чтобы нас в грязи, в пыли съесть болезни не могли": сцены и модальности раннесоветской санитарной пропаганды
1 сентября 1920 г. Санпросвет3 Северо-Кавказского окружного военно-строительного управления Ростово-Нахичеванского гарнизона дал старт «Неделе борьбы с венерическими заболеваниями», выведя санитарную пропаганду на театральную сцену. Как отмечал в своей рецензии на «Суд над сифилитиком» и санитарную пьесу Н. Таганлицкого «Один из многих» врач, поэт и писатель Александр Климентьевич Дворкин-Самарский, «внимание его (зрителя. – К. Б .), несколько притупленное сухими мало говорящими чувству фактами и цифрами санпро-светлекций и малохудожественными и не всегда понятными плакатами и диаграммами, напряженно приковывается к сцене, когда он видит на ней знакомые типы, которые не только говорят, но и действуют. <…> Остается приветствовать Санпросвет СКОВСУ за превосходное начинание в области широкого использования театральных подмостков для санпросвет пропа-
ганды и рекомендовать трудящимся обоего пола посетить выше обозначенные сансуд и пьесу» (РГАЛИ. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 58. Л. 3-4).
Советская Россия действительно вошла в историю как государство пропаганды, где систематическое и целенаправленное воздействие на население с целью его индоктринации было одной из рабочих задач государственных аппаратов. Однако открытие пропаганды в качестве базовой политической технологии мобилизации граждан и управления населением произошло раньше [ Kenez , 1985]. Изначально изобретение пропаганды связывают с усилиями католической церкви по распространению и обучению религиозным доктринам. Исследователи также обозначают пропаганду в качестве важной технологии времен Первой мировой войны, контекстом которой были формирование массового общества и инфраструктуры массовой коммуникации, производство социально-психологических знаний о массах и способах воздействия на них, образование когорты экспертов-пропагандистов [ Jowett , 1987, p. 97–114]. Участие военных структур в пропаганде – не случайность. И не случайно, что глава санпросветотдела Красной армии Кавказского фронта Илья Страшун в 1921 г. возглавил санпросвет всей страны. В данном исследовании ставится цель ответить на вопросы: кто, где и как занимался санитарной пропагандой в 1920-е гг.? Итак, следуя за Дворкиным-Самарским, выводящим пропаганду на сцену, в статье будут описываться места институциализации и предъявления пропаганды в качестве одной из основных технологий санитарного просвещения. При этом санитарное просвещение понимается как кампания, проводимая Наркомздравом по медикализации населения, а санитарная пропаганда – как одна из технологий этой кампании.
В своей рецензии Дворкин-Самарский подчеркивает дихотомию «сухих фактов и цифр» лекций и «действующих типов» театрального санпросвета. Автор рецензии говорит не просто о разнообразии средств, но и об их эффективности, вопрос о которой стоял в 1920-е гг. остро. В советских газетах начала 1920-х гг., говоря об эффективной пропаганде, использовали прилагательные «интенсивная», «деятельная», «планомерная». Исследователь Штефен Плаггенборг [ Плаггенборг , 2000] показывает, каким образом разные культурные формы – музейное дело, плакат, кино, выставка и т.д. – были политически использованы в Советской России 1920-х гг. в качестве орудий пропаганды для изменения человеческой природы. Следуя за постановкой этого вопроса у Плаггенборга и рецензией Дворкина-Самарского, нас будут интересовать модальности пропаганды – дистанции от субъектов высказывания до сказанного. Из этой перспективы вопрос о соотношении лекции и санпьесы приобретает не жанровый, но политический смысл, а изучение пропагандистской модальности становится одной из главных исследовательских задач статьи.
По мере превращения Советской России в «государство пропаганды» пропаганда распознается в качестве ключевой технологии взаимодействия государства с населением и мобилизационного воздействия на него. На заводах и фабриках ведется производственная пропаганда, направленная на повышение производительности труда. Военная пропаганда среди прочего выражается в создании ячеек Осавиахима. Женотделы заняты женской пропагандой, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка пропагандирует идеи воздушного флота. У пропаганды разная направленность и различный масштаб. Она может быть своей и вражеской (предательской, антисоветской, контрреволюционной и т.д.) [ Хоффманн , 2018]. В соотношении с еще одной технологией – агитацией – она выглядит воздействием более серьезным, действенным и комплексным4. На этом фоне санитарная пропаганда и типична, и специфична. Как и все другие виды пропаганды, она направлена на индоктринацию граждан в качестве советских граждан и формирование нового человека; осуществляется с помощью выразительных средств эмоционального воздействия: рассказов, стихов, песен, лекций и т.д.; ставит вопрос об эффективности и находится в поисках эффективных средств; гибридна по своей природе, поскольку совмещает в себе социальную политику и культурную технологию. Специфика санпросвета и программы социальной гигиены в целом – в близости к телу и использовании здоровья в качестве мощного оружия контроля и политической переделки человека.
Особенность санитарной пропаганды состоит также в ее контексте: медицина и гигиена присоединились к этой технологии в условии разрастающихся эпидемий социальных (так их называли сами большевики) болезней: тифа, рахита, сифилиса, туберкулеза, алкоголизма и др.
(Пять лет советской медицины, 1923, с. 5). К исследованию этих вопросов уже обращались исследователи. Так, А. И. Нестеренко изучает популяризацию санитарно-гигиенических норм среди населения в 1917-1921 гг. и выделяет основные механизмы воздействия Наркомата здравоохранения на гигиеническую грамотность советских людей [ Нестеренко , 1971]. Вопросы о санитарной пропаганде возникают и в работе Д. Хоффмана, который рассматривает их как особое сочетание пропагандистских практик модерного государства. В этом смысле использование в санитарном просвещении технологий пропаганды отражало новые тенденции, при помощи которых советские медики старались привести общество в соответствие с новыми нормами государства эпохи модерна. Основной фокус данной статьи – в интересе к сценам и модальностям пропагандистского воздействия в сфере общественного здоровья.
Санитарная пропаганда до революции
Говоря о медикализации восприятия, нужно отметить появление идей о важности санитарного просвещения в России и Европе задолго до 1917 г. Новый взгляд на общество как на биологический организм, который периодически страдает от болезней, демографических ям и иных проблем медицинского толка, определил в эпоху Нового времени необходимость в создании профессиональной медицинской заботы сверху. По мнению М. Могильнер, эти процессы «предопределили саму возможность решать социальные проблемы путем рационального познания населения и целенаправленных манипуляций с ним, основанных на этих познаниях. Науки типа антропологии, общественной санитарии и статистики стали инструментами социальной диагностики» [ Могильнер , 2008, с. 332].
Постепенно такая социальная диагностика становится областью активных действий, где формируются инициативы и непосредственная коммуникативная связь между представителями различных социальных групп. Теперь элиты солидаризировались в мнении о важности систематизации знаний о своем здоровье, а от этого выступали за распространение медицинского знания среди населения [Там же, с. 335]. Например, Михаил Ломоносов увидел в санитарной грамотности действенное средство против детской смертности: в своей работе «О размножении и охранении российского народа», написанной в 1761 г., он предложил создать популярное учебное пособие об акушерстве и опубликовать его большим тиражом ( Ломоносов , 1873, с. 572-676).
Постепенно, уже в XIX столетии, к идее популяризации знаний о здоровье присоединяются ученые-медики. Декан медицинского факультета Московского университета М. Я. Муд-ров с 1808 г. читал специальный курс военной гигиены, а в 1830 г. стал автором брошюры «Краткое наставление, как предохранять себя от холеры, излечивать ее и останавливать распространение оной». Другие известные медики, Н. Пирогов и Ф. Эрисман, смотрели на распространение медицинских и гигиенических сведений как на неотъемлемую часть работы врача [ Вишленкова , Гатина , 2015, с. 158-160].
Развитие в XIX в. периодической печати также не обошло стороной тему здоровья: издавались «Московская медицинская газета», «Архив судебной медицины и общественной гигиены», «Московский врачебный журнал», «Современная медицина», «Земской врач», «Медицинская беседа», «Медицинское обозрение» и др. Однако важно подчеркнуть, что литература и тексты того времени не были общедоступными в силу малого уровня грамотности основной массы населения [Там же, с. 162].
Значительный вклад в распространение знаний о вопросах охраны здоровья внесло Вольное экономическое общество, основанное в 1865 г., которое занималось изданием научнопопулярных книг о народном здравии на русском, татарском, грузинском, армянском и ряде других языков. В свою очередь, «Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова», созданное в 1883 г., также ставило себе одной из основных задач «содействовать улучшению общественного здравия и санитарных условий России» [Рощин, 1982, с. 48]. Участники занимались организацией гигиенических съездов и выставок, созданием небольших музеев, библиотек и лабораторий, чтением публичных лекций об охране здоровья. В 1893 и 1913 гг. были проведены две крупные Всероссийские гигиенические выставки. В начале ХX в. общественная инициатива расширяется и появляются занимающиеся санитарным просвещением различные общественные организации: «Лига борьбы с туберкулезом», «Общество борьбы с детской смертностью» и др., которые организовывали лотереи, публичные лекции, издавали брошюры, листовки, плакаты, печатали статьи в прессе [История санитарного просвещения России, 2023, с. 68-70]. Таковым было основание для дальнейшего развития санитарного просвещения к 1917 г.
Городские места советской санитарной пропаганды: дома санпросвещения
Как часть государственной системы здравоохранения санитарное просвещение начало формироваться в 20-е гг. XX столетия. В период 1920-1930-х гг. центральное медицинское управление находилось под контролем Народного комиссариата здравоохранения, созданного 18 июля 1918 г. Санитария как направление медицины, охраняющее и поддерживающая чистоту и здоровье населения, становилась центральной идеей здравоохранительной системы ( Семашко , 1919, с. 1-3). В 1921 г. Декретом СНК РСФСР от 18.07.1918 «О народном Комиссариате Здравоохранения» в структуре Наркомздрава РСФСР была образована специальная санитарная секция. Создание секции стало началом институционального оформления санитарного просвещения в государственном масштабе ( Страшун , 1923, с. 60).
В условиях неосведомленности и безграмотности населения требовалось в максимально короткие сроки найти эффективные средства и формы работы, доносящие советскую санитарно-гигиеническую повестку до широких масс. Осваивая литературные, перформативные, лекционные, судебные формы, машина советской агитации – санитарной в том числе – превращала их в технологии пропаганды. В зависимости от избранной формы технология санитарной пропаганды использовала различные методы воздействия. Встал вопрос о подходящих пространствах и площадках для работы с населением.
В городах санитарное просвещение опиралось на сеть домов санпросвета, до революции не имевших аналога. Хотя профессор Макеев, деятель «Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова», предлагал в 1896 г. организовать всероссийскую подписку для строительства «Дома им. Пирогова» в Москве. Дом должен был стать центром медицинской общественности, объединив лекторий, музей, читальню и выступив организационным, методическим и издательским центром распространения гигиенических знаний. Из-за отсутствия средств проект не был реализован ( Ершов , 1949).
Первые дома санитарного просвещения появились в 1920 г. в Ярославле, Смоленске и Харькове. Уже в первой половине 1921 г. их число возросло до 13; открылось 15 постоянных музеев-выставок. В 1924–1925 гг. к сети присоединились Ростов-на-Дону, Тверь, Одесса, Гомель, Краснодар, Владимир, Севастополь, Нижний Новгород, Саратов, Тула, Таганрог, Махачкала, Казань, Архангельск, Оренбург, Пенза, Ташкент и т.д. Дома санпросвета действовали и в разных районах столиц ( Каневский , Найштат , 1929).
Они создавались по типу клубов, обеспечивающих просвещение граждан в культурных формах – через кинолекции, театрализованные постановки, санитарные викторины, кружки, музеи-выставки, библиотеки-читальни. Отдельную категорию мероприятий составляли циклы лекций по анатомии, физиологии и основам гигиены.
Работа была организована комплексно: экспозиция выставки дополнялась лекцией с обсуждением вопросов оздоровления труда и быта, социальных болезней, борьбы с суевериями. Если среди посетителей оказывалось несколько женщин, сотрудники дома санпросвета заводили беседы о том, куда пойти с больным ребенком, почему надо использовать детские кроватки европейского образца, каким образом предохранить себя от болезней. Доклады иллюстрировались диапозитивами ( Идзон , 1930, с. 12-13).
Курсы пользовались популярностью среди молодежи и женщин, да и сама пропаганда была гендерно асимметричной. Как отмечает Трисия Старкс, роль женщин подчеркивалась в создании здорового и гигиеничного жилья: «Если мужчины были показаны далекими от домашней жизни или исполняющими в ней небольшие задачи, то женщины репрезентировались через приготовление здоровой еды, заботу о детях, обеспечение чистоты и гигиены в доме» [ Starks , 2008, р. 66].
Сотрудники домов санитарного просвещения организовывали выезды на заводы, в рабочие общежития, на рабфаки, в воинские части, в деревни, села, кишлаки для чтения лекций и популяризации санитарно-просветительных знаний. Их мобильность нашла свое отражение в опубликованном 19 апреля 1924 г. циркулярном письме Наркомздрава «Положение о доме санитарного просвещения». Данным положением определялось, что дома санитарного просвещения являются основными учреждениями по проведению санпросвещения, в состав которых вхо- дили стационарная и передвижная выставки по охране здоровья, подвижной фонд наглядных пособий, аудитория, библиотека-читальня, склад или ларек популярной санитарной литературы.
Подробнее об инфраструктуре. Одним из самых обеспеченных был Ярославский дом санпросвета, размещавшийся в двухэтажном здании и располагавший в 1924-1928 гг. аудиторией на 150 мест со сценой и киноустановкой, библиотекой-читальней с 30 000 единиц хранения и 155 постоянными подписчиками, фондом наглядных пособий и передвижных выставок, диаскопами, эпидиаскопами, кинофильмами, двумя передвижными выставками, складом с экспедицией и киоском для распространения печатных изданий, музеем-выставкой в 3680 экспонатов. В штате состояло 14-15 сотрудников ( Ершов , 1949, с. 13). В меньшем масштабе был реализован Дом санпросвета в Краснопресненском районе Москвы – одноэтажный особняк в семь комнат, аудитория на 120 мест, эстрада вместо сцены, библиотечный фонд 7 тыс. изданий, 12 диаскопов и т.д (Там же, с. 27-30). Дома санитарного просвещения не просто мыслились комбинатами особого рода, как это было принято в 1920-е гг., но должны были стать центром управления и основной базой, «на которой строится вся работа в городе и районе» и «многочисленные нити которой проникают во все уголки нашей разносторонней и распыленной работы, организуя ее, согласовывают и объединяют» (Там же, с. 46).
Итак, дома санитарного просвещения были мультимодальной точкой реализации санитарной пропаганды и аккумулировали в себе сразу несколько репертуаров просветительской деятельности: и лекцию, и музей, и библиотеку, и театральную работу. Такая комплексность домов санитарного просвещения становилась главным критерием его эффективности. В этом смысле их можно сравнить с комбинатами, объединяющими предприятия различных производственных отраслей. Определяемое властью назначение домов санпросвета и образцовые проекты вместе кристаллизуют идею нового городского пространства, производящего – как комбинат – советского горожанина. Дом санитарного просвещения стал одним из инструментов формирования нового городского порядка, в котором происходило воспитание нового человека. Рекомендуемые программы работы этих учреждений содержали в себе детализацию способов и порядков этого производства.
Санитарная пропаганда в деревнях: избы-читальни
В деревнях до 1920-х гг. уже существовали места просветительской деятельности – избы-читальни, организацию деятельности которых осуществлял «избач». Первые избы-читальни появились в XIX в. и изначально стали выполнять просветительские функции. Это были своего рода сельские клубы с небольшими демонстрационными зонами. С приходом советской власти данные учреждения стали рассматриваться преимущественно как центры политической работы с крестьянством. В это время их деятельность находилась под пристальным контролем органов власти: направление и содержание работы в 1920-е гг. определялись циркуляром ВЦИК и СНК РСФСР «Об укреплении изб-читален» от 18 сентября 1924 г. и Постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1929 г. «Об избах-читальнях».
В 1922 г. вступило в силу «Положение о работе среди профсоюзов», согласно которому были определены объем, содержание и формы санпросветработы и в этих институциях. Все это оставалось в сфере ведения органов Наркомздрава, а практические мероприятия – устройство курсов, лекций, экскурсий и пр. – возлагались на местные профсоюзные организации (НА РАМН. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1. Л. 7). Однако такой переход не стал эффективным решением с экономической точки зрения: с отдачей этого дела на местный бюджет санитарное просвещение чрезвычайно пострадало. Как отмечал Семашко в 1925 г., «оно еще кое-как теплится в губернских центрах, но оно чрезвычайно плохо обстоит в уездных центрах и почти полностью отсут- ствует в наших деревнях, именно там, где задача санитарного просвещения особенно важна» (XII Всероссийский Съезд Советов, 1925, с. 1).
Главными направлениями работы изб к началу 1920-х гг. были выдача книг, участие в проведении посевных и уборочных кампаний, организация бесед и лекций, кружковая работа, громкая читка газет и журналов, прослушивание радиопередач, художественная самодеятельность, пропаганда правовой грамотности, антирелигиозная агитация. Наряду с этим началось активное вовлечение крестьянского населения в практики защиты своего здоровья.
Основным каналом для обучения и корректировки санитарно-просветительской деятельности таких изб служили специально издаваемые в издательстве «Крестьянская газета» периодические журналы. Например, в 1926 г. вышло бесплатное приложение к журналу «Изба-читальня» под названием «Изба-читальня в борьбе за здоровую деревню». Оно содержало в себе методические рекомендации по проведению санитарно-просветительских лекций. Редакция приложения писала: «Работа крестьянина настолько тяжела, что справиться с ней может только вполне здоровый человек. Вот почему проводить работу по санитарному просвещению нужно так, чтобы практические выводы, определяющие возможность переустройства его быта на здоровых началах, выдвигались на первое место» ( Берлянд, Степанов , 1926, с. 3).
Санитарное воспитание в деревне, ко всему прочему, велось в контексте и антирелигиозной пропаганды. Для наибольшей эффективности религия связывалась с показательным жизненным материалом - религиозными обычаями, вызывающими те или иные болезни. Например, говорилось, что в результате распространенного в православии обычая христосования на Пасху и целованья креста имеют место многочисленные случаи заболевания сифилисом (Там же, с. 12).
Итак, избы-читальни, как и дома санпросвещения, также стали основным местом санитарной пропаганды в деревне. Вероятно, в силу меньших финансовых возможностей устроить в деревне самостоятельный театр или музей гигиены было сложно. Поэтому изба как привычное и уже рабочее место идеологической и просветительской работы с крестьянским населением расширила свой репертуар санитарными сюжетами. Однако чиновники Наркомата здравоохранения не стали ограничиваться лишь мультимодальными центрами просвещения в городе и в деревне и ставили перед собой задачу усилить не только формы санитарного просвещения, но и его географию.
Экспонируя заразу: о санитарных агитпоездах и выставках
Идея создать мобильную пропаганду в специальных агитпоездах принадлежит членам Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). В период Гражданской войны 1917-1923 гг. боевой дух солдат поддерживали с помощью агитационных материалов, которые такие поезда довозили в разные уголки страны. Изначально одно купе пассажирского поезда заполняли пропагандистской литературой и вместе с курьером направляли ее в прифронтовые пункты. Однако вскоре ВЦИК решил, что ради такого дела можно выделить и целый поезд, расписав его пропагандистскими лозунгами для привлечения внимания, - бумажные плакаты были слишком ненадежны, по пути их уничтожали дождь и ветер.
В августе 1918 г. в комитете приступили к созданию первого агитационного поезда (Агитпарпоезда В.Ц.И.К., 1920, с. 2-4). В составе из пятнадцати пассажирских и товарных вагонов оборудовали книжные склады. Имеются свидетельства, что в поездах также имелись отделение телеграфного бюро, киноаппарат и экран для демонстрации фильмов (Там же, с. 6-8). Со временем агитпоезда стали тематическими: появились «Красный Восток», «Советский Кавказ», «Красный казак» и «Октябрьская революция». Разные режимы видения провоцировали различные виды изобразительного материала: монтажность экспозиций выступала необходимой предпосылкой к выстраиванию новых связей в сознании смотрящих зрителей.
В 1920 г. Наркомздрав в Петрограде также решает поставить санитарную пропаганду на колеса и организовывает санагиттрамвай. Отдельно осваивалась и железная дорога: были созданы инструкторский поезд-выставка и 17 вагонов-выставок, курсировавших почти по всем железным дорогам. Некоторыми Губздравами были организованы баржи-выставки, по шоссейным дорогам было устроено семь подвижных выставок (Там же, с. 13—17). Благодаря этому санитарное просвещение в буквальном смысле стало мобильным.
Литературные критики 1920-х гг. считали, что советская публика ждала интересного зрелища, «и если и собирается чему-то поучиться, то именно через зрелищное волнение, а не через форму поучений ораторов» ( Херсонская , 1925, с. 34), и санпросвет старался отвечать на этот запрос. Характеризуя санитарно-просветительскую работу на Курской дороге, санитарный врач Р. Н. Шор отмечал: «Работа вагона-выставки, который за год сделал 13 поездок по Курской, Нижегородской и Окружной и 190 лекций-бесед, собрала 11 515 посетителей. Почти все лекции читались с волшебным фонарем, раскрашенными картами и диаграммами. Вагон-выставка имеет человеческий скелет, микроскоп, много препаратов, диапозитивы и другие показательные пособия» ( Шор , 1924, с. 5).
В 1923 г. средняя посещаемость санитарного поезда на Курской железной дороге составила 165 человек в день. Посетителям читались и лекции по социальным болезням - венерическим инфекциям, туберкулезу, алкоголизму, малярии (147 лекций), по охране материнства и младенчества (43 лекции), по охране труда (22 лекции), по анатомии (45 лекций), о заразных болезнях (31 лекция), о подаче первой помощи (9 лекций) и 19 лекций на другие темы о здоровье. Общее количество посетителей составило 62 986 человек. Однако со временем эффективность работы санагитпоездов стала снижаться: в силу недостаточного финансирования этого направления санитарного просвещения от многих форм санитарной пропаганды здесь приходилось отказываться. Тот же Шор в 1924 г. отмечал: «Но неожиданно для всех санпросвети-тельная работа оборвалась за отсутствием средств. Не верится, чтобы дорпрофсож и управление дороги, потратив много материальных средств на образцово поставленное дело, не изыскали бы их в дальнейшем» (Там же).
Видимо, в дальнейшем изыскать необходимых средств для поддержания санитарной пропаганды на железной дороге не удалось, так как через четыре года в газете «Гудок» появилась заметка: «На железной дороге существует сеть санитарно-просветительных учреждений. Но их работа выражается главным образом в раздаче всевозможных листовок, в лекциях, в кружковой работе» ( Качурин , 1928, с. 4).
Редко санагитпоезда привозили с собой в железнодорожные клубы санитарнопросветительные кинофильмы. Другой живой работы в виде спектаклей, инсценировок на железной дороге не велось. Современники сетовали и отмечали в газетных заметках, что интерактивность (например, санитарный театр) повысила бы интерес железнодорожников к здравоохранению и охотнее направила бы их и в санитарно-просветительные кружки (Там же, с. 5). Однако санпросветским железнодорожным органам создать свой санитарно-просветительный театр было трудно все также из-за отсутствия средств.
Экспериментальный проект «просвещения на колесах» позволил санитарной пропаганде расширить аудиторию слушателей как количественно, так и качественно: в санитарное просвещение были включены все регионы страны. Санитарные экспозиции в поездах предложили новый оптический режим медицины - понятную и эффективную модель демонстрации и восприятия изобразительного материала о санитарии. Агитпоезд стал эффектным и эффективным способом смыслообразования, в котором выразительные средства сочетались с современными транспортными технологиями.
Рампа санпросвета: перформативность санитарной пропаганды
Отдельным способом санитарной пропаганды в рассматриваемое время стали санитарные театральные спектакли. Медицинская работа с театрализацией - это попытка показать тело человека и его возможные болезни ненасильственно, т.е. без применения анатомического театра. Через постановки медицина охватывала повседневность, а медицинское знание проникало в общественное мышление.
Специальные театральные труппы были дорогим мероприятием, доступным лишь наиболее крупным домам санитарного просвещения в Москве, Ленинграде, Харькове и Воронеже. В Научном институте санитарной культуры, основанном Московским городским и областным здравотделом в 1929 г., в течение нескольких лет функционировал специальный санитарнопросветительный театр под руководством драматических режиссеров столицы.
Ставящиеся санитарные спектакли в основном охватывали тематику социальных болезней. Пьесы убеждали зрителя, что своевременно принятое лечение приводит к полному выздоровлению, обрисовывали, как трудящиеся ежедневно сознательно и несознательно «грабят» свое собственное здоровье, обличали темный быт деревни, где знахарство и суеверие – обычное явление. Особый отклик зрителя вызывали пьесы, которые касалась табуированных ранее тем – проституции, алкоголизма и венерических заболеваний. Например, в пьесе «Сумерки города», где героиня Лиза заразилась сифилисом, перед зрителем представал социальный контекст существования заразительной болезни: притоны, все мрачные закоулки большого города и, наконец, диспансер. «Тяжелые переживания заболевшей сифилисом и потом ее радостное избавление от недуга, – все это живо волнует зрителя, рождает в нем мысль уберечь свое здоровье от сифилиса» (Там же).
Об эффективности театрализации санитарной пропаганды свидетельствовала статистика: например, по свидетельствам, театр санпросвета в Курске дал за четыре года своей работы свыше 800 спектаклей и 400 концертов, через него прошло свыше миллиона зрителей (Там же, с. 4). Даже известный советский агитационный театральный коллектив «Синяя блуза», который затрагивал в своих выступлениях самые различные темы – от общеполитических и международных до мелочей быта, – тоже стал освещать темы санитарии и гигиены (Малые формы клубного зрелища, 1929, с. 62).
Вместе с тем театрализация затронула и санитарно-просветительскую работу с детьми. Больше всего она была наполнена трансформацией понимания чистоты и личной гигиены, которые оказались, в свою очередь, трансформацией понимания здоровья. Оборудование домов умывальными и ванными комнатами, регулярные проветривания и прогулки, тенденция к уничтожению неприятного запаха тела – повседневная жизнь советских людей становилась более чистоплотной. В детских пьесах персонажи пели песни о важности соблюдения правил личной гигиены: прибрать кровать, умываться и чистить зубы, каждый день прогуливаться и дышать свежим воздухом для укрепления иммунитета. Все это рекомендовалось выполнять, «чтобы нас в грязи, в пыли съесть болезни не могли» (Там же, с. 10-12).
Гавриил Добржинский в 1925 г. написал пьесу в двух картинах для детей младшего возраста «Ивашка-замарашка». По сюжету дети просыпаются утром в общей комнате для сна и всячески порицают героя Ивашку за его нечистоплотность и игнорирование мер личной гигиены: «Ни рубашку не заправишь, ни голову не причешешь, ни зубы не вычистишь. Тьфу!» ( Добржинский , 1925, с. 8). Такое внимание к дихотомии «грязный - чистый» и отождествление чистоты со здоровьем имели политическую функцию. По мнению исследовательницы Мэри Дуглас, нечистоплотность включается в отличительные маркеры социально неподходящих элементов, тем самым разграничивая «своих» и «чужих» [ Дуглас , 2000, с. 65-66]. Таким образом, тощие болезненные фигуры маркировались еще и социально неподходящими в силу своей неряшливости и грязи. По мнению Галины Орловой, это позволило провести сортировку нового и старого [ Орлова , 2007, с. 251-270].
Главная часть сюжета – явление к Ивашке различных болезней. Добржинский визуализирует заразу и заболевания и характеризует их через маркеры симптомов. В пьесе чесотку должна играть чумазая девчонка со спутанными висящими космами волос, горловые болезни исполняли фигуры с обмотанным горлом и красными воспаленными лицами, лишай должен был быть воплощен на сцене грязным остриженным мальчишкой, чахотку играла тощая и кашляющая фигура с желтым лицом ( Добржинский , 1925, с. 5). Из сценария пьесы видно, что фигуры болезней неестественны, фантастичны и их особенности подчеркнуты. В конце таких детских пьес главные герои всегда решают впредь соблюдать личную гигиену, мыться и предотвращать заболевания заранее.
Более доступным и широко распространенным видом театрализации идей санитарного просвещения стали «Санитарные суды», посвященные главным образом эпидемическим инфекционным и венерическим болезням. В ходе судов разыгрывались выступления сторон обвинения, защиты, самого обвиняемого, свидетелей и т.д. Потребность в прозрачном гражданском обществе и необходимость медицинской опеки привели к гибридам судов и театров и формированию идеала двойного толка: здорового тела самого по себе и решений, которые при- нимаются относительно него в обществе. Началось восстановление взаимодействия между научными и обывательскими знаниями.
Инсценировались «Суд над красноармейцем Неряшкиным», обвиняемым во вшивости и распространении сыпного тифа, «Суд над сифилитиком» [ Заблудовский , Лотова , 1979, с. 21]. Наибольшую известность приобрел «Суд над проституткой» по обвинению в распространении венерических болезней. Главную героиню-крестьянку еще до революции соблазняет хозяйский сын, она никак не может найти работу и вынужденно идет в публичный дом, где заражается сифилисом (Санитарный суд над проституткой, 1924, с. 4). В сценарии А. И. Аккермана «Суд над проституткой и сводницей: Дело гражд. Евдокимовой по обвинению в сознательном заражении сифилисом и гражд. Свиридовой в сводничестве и сообщничестве» можно обнаружить схожий сюжет ( Аккерман , 1925). Среди действующих лиц есть врач, который выступает в качестве экспертного лица и проводит освидетельствование на предмет заражения. Его речь как раз и отвечает задачам санитарного просвещения: в ходе допроса он дает ответы на специальные наводящие вопросы со стороны обвинения и защиты: «Обвинитель: Скажите, доктор, какие проявления болезни были у гражд. Евдокимовой до посещения ее гражд. Климовым. <…> Защитник: Скажите, доктор, у каждого больного сифилисом сыпи предшествует язва? А также прошу сказать, может ли больной не заметить ни язвы, ни сыпи?» (Там же, с. 50-54). Можно говорить, что санитарный суд одномоментно являлся и судом чести, обозначающим дозволенное и недозволенное поведение советских граждан в соответствии с новой этикой.
Судя по отзывам в периодических печатных изданиях, гигиенические спектакли и санитарные суды были особенно популярным и действенным способом санитарного просвещения: они не только транслировали необходимые знания, но и через вовлечение аудитории в «процесс» создавали дихотомию «свой - чужой». Приобщение к «своим» инициировало у советского населения желание удержаться в этой группе, а значит – соблюдать необходимые нормы. Фиксация важности гигиены на сцене выражалась в виде ужасного обезображивания и идеального преобразования.
Обозначение говорящего: санпросвет и личность. Заключение
Многие из тех, кто обозначал и устанавливал язык санитарного просвещения, определял его формы и модальности пропаганды в ней, сейчас либо неизвестны, либо забыты. Можно говорить о двух причинах этого умолчания: в первую очередь многие деятели советского здравоохранения были искусственно исключены из общественного дискурса после сфабрикованных «Дела врачей» и «Борьбы с космополитизмом» (1948-1953). Во-вторых, многие личные и структурные фонды документов, связанных с организацией санитарного просвещения, хранились в Архиве Российской академии медицинских наук, доступ к которому практически невозможен после реформы Академии наук и последующего архивного кризиса в 2019 г.5
Одним из таких деятелей был Илья Давидович Страшун. В 1949 г. он был уволен со всех должностей в ходе кампании по борьбе с космополитизмом и обвинен в буржуазном объективизме и злонамеренных попытках скрыть передовое значение советской медицины. 316 единиц его документов хранятся в его личном фонде № 11 в Научном архиве Российской академии медицинских наук6.
Конечно, в силу обозначенных ограничений восстановить точную степень вклада и роль Страшуна представляется сложным. Однако имеющееся многообразие сохранившихся документов об описанных в статье режимах санитарного просвещения, дошедшие до нас тексты публичных выступлений Страшуна, его санитарных брошюр и публицистических статей позволяют обрисовать контуры его работы. Выбранные для статьи сценарии санитарного просвещения объединяет личность Страшуна – он был точкой соединения и инициирования описанных процессов.
Илья Давидович одним из первых озвучил идеи о «политических моментах санитарного просвещения» и о санитарном просвещении как обязательной составной части политработы в Красной армии. Известно, что как начальник санитарно-просветительного отдела санитарной части фронта Страшун говорил в марте 1921 г. на Первом Всероссийском совещании по санитарному просвещению о необходимости пересмотра технологий санитарного просвещения, продиктованного условиями времени [Заблудовский, Лотова, 1979, с. 17]. После этого выступления Страшун был переведен с Кавказского фронта в Наркомздрав на должность заведующего санитарно-просветительным отделом. Одновременно с руководством этим отделом Страшун возглавил с 1922 г. издательство Наркомздрава. С 1926 по 1948 г. он входил в редакцию Большой медицинской энциклопедии.
Те идеи, которые привносил и реализовывал И. Д. Страшун с коллегами в направлении санитарного просвещения, позволили произвести смещение в изучении различных практик поддержания здоровья к их пониманию в процессах осуществления ежедневных человеческих практик.
Многообразность осуществляемых сценариев отнюдь не подразумевала их фрагментарности. Язык санитарного просвещения стал частью человеческой деятельности, а множественная санитарная пропаганда стала значимой в реальном социокольтурном дискурсе. По этой причине она оснащалась средствами и стратегиями, которые непосредственно передавали личное и межличностное отношение и были предназначены для выражения чувства эмоциональной вовлеченности. Обозначение правильных и отказ от неправильных гигиенических стратегий поведения в проанализированных модальностях санитарной пропаганды смогли эмоционально, ментально и психологически вовлечь советских трудящихся в содержание санитарного сообщения, активировать знания о мире и втянуть в «сцену».
Цели народовластия требовали, чтобы жители страны участвовали в государственных делах и были просвещенными гражданами. Широкое использование санитарной пропаганды справилось с этой задачей в деле санпросвета советского народа.
Список литературы "Чтобы нас в грязи, в пыли съесть болезни не могли": сцены и модальности раннесоветской санитарной пропаганды
- Вишленкова Е.А., Гатина З. С. «Изложить предмет сциентифически»: русские врачи и их полевые исследования (первая половина XIX века) // Российская история. 2015. № 3. С. 154-169.
- Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу / пер. с англ. СПб.; М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. 286 с.
- Заблудовский П.Е., Лотова Е.И. И.Д. Страшун. М.: Медицина, 1979. 72 с.
- История санитарного просвещения России: монография / под общ. ред. д-ра мед. наук, профессора, академика РАН Г.Г. Онищенко, д-ра мед. наук, профессора А.Ю. Поповой. СПб.: Наукоемкие технологии, 2023. 546 с.
- Могильнер М.Б. Homo imperii. История физической антропологии в России (конец XIX- начало XX в.). М.: Новое литературное обозрение, 2008. 505 с.
- Нестеренко А.И. Санитарное просвещение в РСФСР. Становление и начальный период развития (1917-1921 гг.). М.: Медицина, 1971. 138 с.
- Орлова Г.А. Организм под надзором: тело в советском дискурсе о социальной гигиене (1920-е годы) // Теория моды. 2007. Вып. 3. С. 251-270.
- Плаггенборг Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / пер. с нем. И. Карташевой. СПб.: Журнал «Нева», 2000. 416 с.
- Рощин А.В. 100-летие Устава Московского гигиенического общества // Гигиена и санитария. 1982. № 5. С. 48-49.
- Хоффманн Д.Л. Взращивание масс: модерное государство и советский социализм, 1914-1939. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 424 с.
- Jowett G.S. Propaganda and Communication: The Re-emergence of a Research Tradition // Journal of Communication. 1987. № 37(1). P. 97-114.
- Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. Cambridge University Press, 1985. 324 р.
- Starks Т. The Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary State. University of Wisconsin Press, 2008. 336 р.