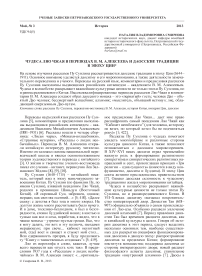Чудеса Ляо Чжая в переводах В. М. Алексеева и даосские традиции в эпоху Цин
Автор: Смирнова Наталия Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
На основе изучения рассказов Пу Сунлина рассматриваются даосские традиции в эпоху Цин (1644-1911). Основное внимание уделяется даосизму и его миропониманию, а также деятельности замечательного переводчика и ученого. Переводы на русский язык, комментарии и предисловия рассказов Пу Сунлина выполнены выдающимся российским китаеведом - академиком В. М. Алексеевым. Чудеса и волшебство раскрывают важнейшие культурные ценности не только эпохи Пу Сунлина, но и раннесредневекового Китая. Высококвалифицированные переводы рассказов Ляо Чжая и комментарии В. М. Алексеева создают образ даосского монаха - это «пернатый» гость; человек Дао - объятый Дао человек; бессмертный волшебник; алхимик; «мыслитель, объявший истину»; лис, обладающий сверхземным Дао-путем.
Рассказы пу сунлина, переводчик-востоковед в. м. алексеев, история китая, империя цин, даосизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14750401
IDR: 14750401 | УДК: 94(5)
Текст научной статьи Чудеса Ляо Чжая в переводах В. М. Алексеева и даосские традиции в эпоху Цин
Переводы на русский язык рассказов Пу Сун-лина [5], комментарии и предисловия выполнены выдающимся российским китаеведом – академиком Василием Михайловичем Алексеевым (1881–1951) [6]. Рассказы вошли в четыре сборника: «Лисьи чары», «Монахи-волшебники», «Странные истории», «Рассказы о людях необычайных». Переводы В. М. Алексеева открыли китайскую литературу русскому читателю. Именно он заложил основы национальной переводческой школы и явился основоположником теории художественного перевода с китайского [3]. О жизни и творчестве ученого-востоковеда писал его ученик – китаист, переводчик Лев Залманович Эйдлин [8], [9], [10].
Пу Сунлин (1640–1715) – китайский писатель, который жил в эпоху маньчжурского завоевания Китая. Пу Сунлин (по фамилии Пу, по имени Сунлин), взявший псевдоним Ляо Чжай, родился в провинции Шаньдун (Восточный Китай). «Я скромный Сун, заброшен, одинок; мерцаю, как светляк осенний…» [5; 418]. «Далее скажу: с детства я был тощ и много хворал. На долгую жизнь много рассчитывать было нечего. И в доме, тоскливо-безлюдном, я был в безотрадности, словно буддийский монах; а кистью и тушью как вол и соха, поработав, я видел, что в чашке монаха – угрюмо-пустые гроши. Все, что я могу делать, это вот: в эту полночь, звездами мерцающую; при свече… кабинет неуютный мой, (где) воет и свищет и стынет мой стол… Всю сдержанность презрев, я буду продолжать ту “Книгу о таинственных созданьях”» [5; 419].
Ляо из иероглифа в слово, кажется, лучше всего перевести как «пусть хоть так». В предисловии 1937 года к «Рассказам о людях необычайных» В. М. Алексеев пишет: «…оригиналь- ное предисловие Ляо Чжая… дает мне право расшифровать самый псевдоним Ляо Чжай как “Кабинет неизбежного” (для человека, которому не везет, но который хотел бы не подчиняться року)» [1; 422].
Рассказы Пу Сунлина о чудесах помогают увидеть многообразие и различные стороны культуры цинского Китая, а также позволяют познакомиться с даосским мировоззрением. В XIV–XVI веках даосизм играл чрезвычайно важную роль в формировании религиозного синкретизма и синкретических религиозных направлений и сект, провозглашая принцип «Три религии – одна сущность» (имеются в виду конфуцианство, даосизм и буддизм). В эпоху Цин секты активно преследовались правительством [7]. Однако даосская склонность к чудесному традиционно жила в миропонимании китайцев.
Чудеса и волшебство раскрывают важнейшие культурные ценности не только эпохи Пу Сунлина, но и раннесредневекового Китая. В VII–X веках даосизму оказывал покровительство императорский двор. Династия Тан (618– 907) официально объявила о своем происхождении от Лао-цзы. Особенно расцвело увлечение даосской алхимией [7]. Период правления династии Тан был временем расцвета даосизма, как и китайской культуры в целом. Говоря об истории даосизма в этот период, следует выделить несколько основных тем, наиболее существенных для раскрытия специфики функционирования даосизма в данную эпоху: распространение даосизма за пределами Китая; формирование института монашества; поддержка даосизма со стороны императорского двора; новый расцвет философского аспекта даосизма; становление традиции «внутренней алхимии» [7]. Даосы в раннесредневековом Китае сумели стать необходимой и незаменимой частью духовной культуры страны и народа.
Содержание рассказов Ляо Чжая все время вращается в кругу «причудливого, сверхъестественного, странного». Кудесники, волхвы, прорицатели, фокусники являются в мир, чтобы, устроив мираж, показать новые стороны нашей жизни [4; 24]. Монахи вмешиваются в человеческую судьбу на правах волшебников.
В. М. Алексеев в предисловии к сборнику «Монахи-волшебники» рассказывает о монахах буддийской религии и даосской веры. «Монах – это святитель, знающий магические приемы и поэтому опасный, заслуживающий всякого почитания и не подлежащий оскорблениям. <…> Идеальная личность монаха этого толка также предполагает постижение им тайн сверхбожества, отвлеченного и непостижимого простым людям Дао, а потому и вооруженного против зол жизни, которая для него проста, как для фокусника фокус. Этот монах главным образом и есть фокусник» [5; 108].
Рассказы Ляо Чжая – «Превращения святого Чэна», «Шантаж», «Сумасшедший даос», «Хуань-нян у лютни», «Жизнь Ло Цзу», «Грызет камни», «Укрощение Цуй Мэна», «Бесовка Сяо-се», «Чжэнь и его чудесный камень», «Чан Тин и ее коварный отец», «Священный правитель», а также прекрасные комментарии переводчика создают образы, которые помогают понять даосские традиции.
Даосский наряд – это желтая шапка и шуба из перьев. «Пернатые» гости – это поэтическое название даосских монахов, уподобляющее их порхающим в небе бессмертным, в которых они веруют и блаженства которых добиваются. «…Вдруг как-то неожиданно Чэн сам появился, одетый в желтую шапку и шубу из перьев, с возвышенно устремленным выражением лица – настоящий даос!..» [5; 115].
Одно из литературных названий даосского монаха – Человек Дао, то есть служитель Дао, объятый Дао человек. «…Войдя в храм, он увидел какого-то человека Дао, одетого в холщовую хламиду и сидящего в пристройке, с поджатыми ногами» [5; 168].
Даосский монах – прежде всего волшебник. «Помешанный даос – не знаю ни фамилии его, ни имени – пребывал в Мэншаньском храме. Он то пел, то плакал, не проявляя постоянства, и никто не мог его разгадать. Однажды кто-то видел, как он варил себе на обед камень» [5; 166]. «…Впоследствии дровосеки из лагеря в Шися, забираясь в горы, увидели даоса, сидящего в гроте. Даос никогда не просил пищи. Это всем казалось необыкновенным и странным» [6; 177]. «…У достопочтимого Ван Цинь-вэня из Синьчэ-на жил в доме слуга, которого тоже звали Ван. Он еще в молодых годах ушел в горы Лао, чтобы изучать там Дао. Прожив там долгое время, он не ел ничего, приготовленного на огне, а питался только сосновыми шишками и белыми каменьями. По всему телу у него стала расти шерсть» [5; 183].
В эпоху Тан (VII–Х века) даосы широко расселились по всей стране. В качестве опорных пунктов даосизма повсюду были созданы крупные монастыри, где ученые даосские маги и проповедники готовили своих последователей, знакомя их с основами теории бессмертия. Получавшие средства от императоров даосы-алхимики упорно работали над трансмутацией металлов, над обработкой минералов и продуктов органического мира, выдумывая все новые способы приготовления волшебных препаратов [2].
В рассказах Ляо Чжая даосский монах – алхимик. Баочжэнь-цзы – это прозвание даоса-алхимика, означающее «мыслитель, объявший истину». «…В те давние дни, когда я дружил и странствовал с Баочжэнь-цзы, он полюбил меня за твердость и стойкость…» [5; 228]. «Я, видишь ли, лис, обладающий сверхземным Дао-путем…» [5; 230]. «Знаешь что – наш даос – бессмертный волшебник…» [5].
«…Затем ему сказали, что там жил некий даос Чэн, большой мастер играть на лютне. Про него говорили также, будто он обладает секретом творить золото…» [5; 129]. «…Даос оставил его у себя на несколько дней и передал ему полностью все свои тайные приемы и заговоры» [5; 331]. «…Вот если у вас есть эта готовность, хотя бы в одной части на десять тысяч, то я сообщу вам один из способов устраниться от смерти!» «…Я отлично знаю, что вы не веруете. Но, видите ли, то, о чем я говорю, не имеет ничего общего со знахарством и колдовством…» [5; 185–186]. «Некий даос из храма “Обращенного к небу” любил предаваться искусству вдыханий и выдыханий» [5; 417].
Высококвалифицированные переводы рассказов Ляо Чжая и комментарии В. М. Алексеева создают образ даосского монаха – это «пернатый» гость; человек Дао – объятый Дао человек; бессмертный волшебник; алхимик; «мыслитель, объявший истину»; лис, обладающий сверхземным Дао-путем. Рассказы Пу Сунлина в переводах В. М. Алексеева расширяют наши представления о даосизме, сам ученый считал, что изучение религий Китая «является фундаментом для понимания и объяснения цивилизации и культуры этой страны» [8; 5].
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Чудеса Ляо Чжая в переводах В. М. Алексеева и даосские традиции в эпоху Цин
Список литературы Чудеса Ляо Чжая в переводах В. М. Алексеева и даосские традиции в эпоху Цин
- Алексеев В. М. Китайская фантастическая повесть//Алексеев В. М. Труды по китайской литературе: В 2 кн. Кн. 1. М.: Восточная литература, 2002. С. 415-458.
- Васильев Л. С. История религий Востока. М.: Книжный дом «Университет», 2000. 426 с.
- Голыгина К. И. Китайская классическая литература//Изучение литератур Востока: Россия, XX в./Под ред. А. А. Суворовой. М.: Восточная литература, 2002. С. 214-244.
- Предисловие переводчика к сборнику «Лисьи Чары»//Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах/Пер. с кит. В. М. Алексеева. М.: Художественная литература, 1973. С. 13-27.
- Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах/Пер. с кит. В. М. Алексеева. М.: Худож. лит., 1973. 576 с.
- Рифтин Б. Л. Новеллы Пу Сун-лина (Ляо Чжая) в переводах В. М. Алексеева//Восточная классика в русских переводах: обзоры, анализ, критика/Под ред. Б. Л. Рифтина. М.: Восточная литература, 2008. С. 113-203.
- Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». СПб.: Азбука-классика, 2004. 256 с.
- Эйдлин Л. З. Василий Михайлович Алексеев и его Ляо Чжай//Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах/Пер. с кит. В. М. Алексеева. М.: Худож. лит., 1973. С. 3-9.
- Эйдлин Л. З. История китайской литературы в трудах академика В. М. Алексеева//Алексеев В. М. Труды по китайской литературе: В 2 кн. Кн. 1. М.: Восточная литература, 2002. С. 7-38.
- Ejdlin L. Z. The Academician V. M. Alexseev as a Historian of Chinese Literature//Harvard Journal of Asian Studies. 1947. Vol. X. № 1. P 48-59.