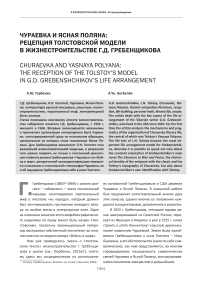Чураевка и Ясная поляна: рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г. Д. Гребенщикова
Автор: Горбенко Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена ключевому аспекту жизнестроительства сибирского писателя Г.Д. Гребенщикова, с 1924 г. жившего в США. Впервые анализируются механизмы и прагматика организации литературного быта Чураевки, сконструированной сразу по нескольким образцам, центральным из которых стала толстовская ясная Поляна. Для Гребенщикова жизнетекст Л.Н. Толстого стал важнейшей жизнестроительной моделью, в результате чего можно говорить не только о постоянной ориентации главного романа Гребенщикова «Чураевы» на «Войну и мир», риторической самоидентификации эмигранта с классиком и «толстовской» топографии Чураевки, но и об ощущении Гребенщиковым себя в роли Толстого.
Г.д. гребенщиков, л.н. толстой, чураевка, ясная поляна, литература русской эмиграции, рецепция, жизнестроительство, персональный миф, литературный быт, утопия
Короткий адрес: https://sciup.org/144154424
IDR: 144154424
Текст научной статьи Чураевка и Ясная поляна: рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г. Д. Гребенщикова
CHURAEVKA AND YASNAYA POLYANA:THE RECEPTION OF THE TOLSTOY,S MODELIN G.D. GREBENSHCHIKOV,S LIFE ARRANGEMENT
А.Ю. Горбенко
A.Yu. Gorbenko
Г.Д. Гребенщиков, Л.Н. Толстой, Чураевка, Ясная Поляна, литература русской эмиграции, рецепция, жизне-строительство, персональный миф, литературный быт, утопия.
Статья посвящена ключевому аспекту жизнестроитель-ства сибирского писателя Г.Д. Гребенщикова, с 1924 г. жившего в США. Впервые анализируются механизмы и прагматика организации литературного быта Чураев-ки, сконструированной сразу по нескольким образцам, центральным из которых стала толстовская Ясная Поляна. Для Гребенщикова жизнетекст Л.Н. Толстого стал важнейшей жизнестроительной моделью, в результате чего можно говорить не только о постоянной ориентации главного романа Гребенщикова «Чураевы» на «Войну и мир», риторической самоидентификации эмигранта с классиком и «толстовской» топографии Чураевки, но и об ощущении Гребенщиковым себя в роли Толстого.
G.D. Grebenshchikov, L.N. Tolstoy, Churaevka, Yas-naya Polyana, Russian emigration literature, reception, life-building, personal myth, literary life, utopia. The article deals with the key aspect of the life arrangement of the Siberian writer G.D. Grebenshchikov, who lived in the USA since 1924. For the first time the article analyzes the mechanisms and pragmatics of the organization of Churaevka literary life, the central of which was Tolstoy,s Yasnaya Polyana. The life text of L.N. Tolstoy became the most important life arrangement model for Grebenshchikov, whereby it is possible to speak not only about the constant orientation of Grebenshchikov,s main novel The Churaevs to War and Peace , the rhetorical identity of the emigrant with the classic and the Tolstoy,s topography of Churaevka, but also about Grebenshchikov,s own identification with Tolstoy.
Г Гребенщиков (1883?–1964) с самого раннего – сибирского – этапа писательской . карьеры конструировал персональный миф о писателе «из народа», который должен был легитимировать притязания молодого автора на особое место в литературном поле. Один из ключевых сюжетов этого мифобиографического нарратива по праву может быть назван «толстовским», поскольку провинциальный литератор выстраивал собственный жизнетекст во многом именно по модели автора «Войны и мира».
Нам уже приходилось писать о «толстовском тексте» жизнестроительства Г. Гребенщикова в целом (см.: [Горбенко, 2015a]1), поэтому здесь мы сосредоточимся на соотношени- ях основанной Гребенщиковым в США деревни Чураевки и Ясной Поляны. В указанной работе был предпринят сопоставительный анализ двух этих локусов, однако многие ее положения нуждаются в корректировке, дополнениях и развитии.
В 1924 г. Гребенщиков, четырьмя годами ранее эмигрировавший из Советской России, переехал из Франции в Америку и уже в 1925 г. начал строить в штате Коннектикут «русскую деревню», позже названную Чураевкой. Земля была приобретена Гребенщиковым у сына Толстого – Ильи Львовича, и это обстоятельство (само по себе символическое), как нам представляется, во многом спровоцировало насыщенность символических связей Чураевки и Ясной Поляны, конструировавшихся писателем-эмигрантом в дальнейшем.
В плане литературного быта Чураевка проецировалась именно на толстовскую усадьбу. Б.М. Эйхенбаум, анализируя литературные стратегии Толстого, писал, что его «уход <…> от журналов, с их редакционной суетой и полемикой» позволил ему сохранить писательскую власть – Толстой «сделал свою Ясную Поляну неприступной литературной крепостью, а себя – литературным магнатом, не зависящим от редакторов, издателей, книжного рынка и пр.» [Эйхенбаум, 2001, с. 113]. Для Гребенщикова такой «неприступной литературной крепостью» стала Чура-евка с находившимся в ней издательством «Ала-тас». Конечно, «литературным магнатом» он не был (издательство привело семью к экономическому краху2), но «Алатас» обеспечивал писателю автономность и независимость от любого рода конъюнктуры. Самостоятельно публикуя и распространяя учительные публицистические сочинения типа книги «Гонец. Письма с Помпе-рага» (опубл. 1928), Гребенщиков имел возможность печатной проповеди, адресаты которой были разбросаны по разным континентам.
Б.М. Эйхенбаум характеризовал толстовский способ литературного существования так: «Ясная Поляна противосто[яла] редакциям как особая, враждебная и архаистическая форма литературного быта и производства» [Эйхенбаум, 2001, с. 111]. По сути ученый пишет об антиин-ституциональности Ясной Поляны, нам же представляется, что уместнее было бы вести речь о вполне удавшейся попытке Толстого превратить свою усадьбу в альтернативную институцию3. Это же относится и к гребенщиковской Чураев-ке, выстраивавшейся (вслед за Ясной Поляной) в качестве институции, альтернативной уже имеющимся. Оба этих локуса были более или менее успешными попытками переакцентировки полюсов культурного поля, символической «мены» социокультурной периферии и центра.
По сравнению с толстовской усадьбой устройство Чураевки было еще более архаичным: типография была построена Гребенщиковым и его супругой с помощью самостоятельно добытых материалов. Кроме того, Татьяна Денисовна выполняла функции ближайшего сотрудника Гребен-щикова4, будучи, подобно Софье Андреевне Толстой, переписчицей и издателем книг мужа (супруги совместно печатали книги на линотипе), а также его литературным секретарем.
Итак, Чураевка строилась как реплика Ясной Поляны. Причем эта миметичность на уровне символизации быта не только могла быть «прочитана» осведомленным наблюдателем, но и эксплицировалась на уровне топографии: одна из чура-евских дорог была названа Tolstoy lane [Чистяков, 2003, с. 240], а большая площадка, находившаяся в западной части деревни, именовалась «Ясной Поляной», «названной, конечно, в честь Толстых вообще, потому что дальше в юго-западном углу стоит усадьба Ильи Львовича Толстого» [Гребенщиков, 1996, с. 209–210]. Более того, «весь район возле нее (усадьбы И.Л. Толстого. – А.Г.) был назван Толстовский Холм» [Там же, с. 210].
Чураевка одновременно была жизнетворческим актом и попыткой сохранения культурной памяти (вписанной в гребенщиковскую концепцию «собирания» русской культуры, рассеянной по всему миру после революции 1917 г.). Аксиомой исследований культурной памяти, согласно формулировке А. Ассман, является то, что она «не существует без кодифицированных знаков и символов, без оформления в виде текстов и визуальных образов. Иначе говоря, базой культурной памяти являются репрезентации» [Ассман, 2014, с. 256–257]. Именно такими репрезентациями, своеобразно фиксирующими в коллективной культурной памяти фигуру Л.Н. Толстого, стали примеры «толстовкой» топографии Чураевки.
Возвращаясь к архаичности устройства Ясной Поляны и ее «реплики» Чураевки, можно сказать, что Гребенщиков максимально претворил в реальность толстовскую идею
ВЕСТНИК
«опрощения»5, связав воедино его «крестьянскую» и «аристократическую» разновидности труда. Глубокая аналогия между Толстым и Гребенщиковым состояла также в том, что оба разрабатывали «антиинтеллигентские» проекты6, целью которых было уже не только бытовое, а культурное, интеллектуальное «опрощение». По воспоминаниям чураевцев, кроме собственных книг и трудов единомышленников, Гребенщиков, как и Толстой, печатал в своей типографии «Азбуку». Как отмечает Б.М. Эйхенбаум, «Азбука» Толстого «скрыва[ла] в себе систему лечения от всевозможных вредных “интеллигентских” идей: общественных, естественнонаучных, исторических и пр.» [Эйхенбаум, 1974, с. 36]7. Гребенщиков, которого «[м]иро-устроительные проекты Л.Н. Толстого» интересовали «не меньше, чем его художественное наследие» [Царегородцева, 2005, с. 127], уже в сибирский период регулярно прибегал к меди-кализации при описании неклассических литературных течений и направлений8.
В то же время «Азбука с начальными молитвами по обычному переводу» имела ряд принципиальных отличий от толстовских «Азбук». Гребенщиков, в отличие от Толстого, не был составителем книги, первоначально напечатанной в типографии Свято-Троицкого монастыря
(Джорданвилль) по благословению митрополита Анастасия, первоиерарха Русской зарубежной церкви. Кроме того, «Азбука», перепечатываемая Гребенщиковым, была написана на церковнославянском языке, состояла из религиозных текстов (молитвы, тропари, паремии и т.д.) и была предназначена для желающих «учиться чтению церковных книг» (содержание см.: [Азбука, б.д., л. 2–3]), тогда как Толстой в период создания своей книги уже находился в конфронтации с Церковью.
Очевидно, однако, что в обоих случаях «Азбука» играла важную идеологическую роль. По справедливому замечанию Н. Осиповой, «любая азбука становится идеологическим продуктом в силу того, что это первая книга, первый опыт получения информации о мире в печатном виде. Носителем новой идеологии толстовскую “Азбуку” делают, во-первых, ориентация на максимально широкий круг читателей, во-вторых, упрощение и “обнуление” социальной лестницы» [Осипова, 2014, с. 344].
То же относится и к «Азбуке», издававшейся Гребенщиковым. Татьяна Чистякова, в детстве жившая с родителями в Чураевке, вспоминает, что в гребенщиковской типографии печаталась «Азбука», по которой она училась читать, впоследствии читая по ней церковные тексты на службах в чураевской часовне [Гурьянов, 2011]9.
И, наконец, еще одно важное отличие состояло в том, что толстовский педагогический проект, частью которого была «Азбука», стал для его автора «особым методом решения литературных проблем» [Эйхенбаум, 1974, с. 65]. «Азбука» Толстого была «демонстраци[ей] и против “образцовых писателей”, и против литературных традиций», превратив Ясную Поляну «в школу не столько для детей, сколько для самого Толстого»
[Эйхенбаум, 1974, с. 66]. Гребенщиков же не преследовал печатанием «Азбуки» никаких эстетических задач, ограничиваясь идеологопедагогическими соображениями.
Идеологическая зависимость Гребенщикова от яснополянского классика не заканчивалась и внедрением «Азбуки». Трудовая община, способы организации которой Гребенщиков обдумывал с середины 1900-х гг., должна была быть организована наподобие «улья». В «Плане по Чу-раевке» появляется троп «трудового улья» восходящий, вероятно, к соответствующему топосу из романа «Война и мир» (см.: [Толстой, т. 11, с. 329–331]10). Любопытно, однако, что в толстовском романе, по замечанию А.М. Ранчина, «”рое-вая” жизнь пчел – символ естественной человеческой жизни» [Ранчин, 2013, с. 100]. Гребенщиков же обращается к топосу улья, обдумывая утопический план, т.е. вполне «искусственную» (и в этом качестве антиномичную «естественному» ходу жизни) конструкцию. Он утверждает, что система труда в Чураевке должна быть построена таким образом, чтобы «именно в практике каждого дня должно быть проводимо Великое Учение о Новой лучшей Жизни. И даже не преподавание, не учительство, но самая система трудового улья должна быть так продумана, чтобы это направляло всех к Общине» [Гребенщиков, нач. 1930-х, л. 1].
Вообще, несмотря на всю плотность толстовского «слоя» жизнестроительства Гребенщикова, основатель Чураевки зачастую реципировал те или иные элементы (жизне)творчества Толстого полемически. Так, Гребенщиков усваивает важнейшую для Толстого метафору улья, однако своим пафосом активного делания его проект наследует скорее концепции «общего дела» Н. Федорова, резко расходясь с толстовской проповедью «неделания». Федоров считал, что толстовское «приглашение на недумание и неделание» ведет к «учению <…> о разъединении», противоположному супраморализму Федорова [Федоров, 2008, с. 498]11. С.С. Царегородцева справедливо указывает, что «[ц]ентральные герои Гребенщикова строили свои судьбы, учитывая проект “общего дела” Н.Ф. Федорова», а «религиозная <…> проповедь Толстого сначала притягивала писателя-сибиряка, а затем отталкивала» [Царегородцева, 2005, с. 88].
Жизнестроительные проекты Толстого и Гребенщикова были принципиально различны и в другом отношении – они имели разную прагматику и подчас крайне несхожую семантику. Гребенщиков инвертировал один из центральных сюжетов толстовского жизнетекста: в отличие от писателя-графа, стремившегося «опроститься», стать «мужиком», «мужик», крестьянин Гребенщиков предпринял максимальные усилия для того, чтобы стать писателем, т.е. достигнуть традиционно «дворянского» статуса (ср.: [Толстоноженко, 2014]). Гребенщиковский сценарий следования «за Толстым» включал в себя как следование толстовской модели (вплоть до абсолютного риторического самоотождествления с автором «Войны и мира»), так и полемику с ней.
Однако, несмотря на все эти расхождения, интенсивность и символическая напряженность автопроекций на (жизне)творчество Толстого позволяют говорить о гребенщиковском «представлении / ощущении себя Толстым», своего рода «исполнении роли Толстого»12, включавшем в себя не только жизнестроительные жесты, но и написание романа «Чураевы» «с оглядкой» на «Войну и мир»13.
Можно сказать, что при написании «Чура-евых» Гребенщиков постоянно соотносил свой роман с «Войной и миром», а создавая Чураев-ку, в качестве образца он ориентировался прежде всего на Ясную Поляну. Это вполне соответствует механизму жизнестроительства Гребенщикова, попытавшегося выстроить американскую деревню по модели романной Чураевки.
ВЕСТНИК
Многочисленные проекции Чураевки на Ясную Поляну (как и другие «толстовские» элементы жизнестроительства Гребенщикова) были вписаны в контекст ретроутопического проекта, согласно которому «русская деревня» в Америке должна была стать символическим центром возрожденной русской культуры.
По мнению Б. Андерсона, «[с]ообщества следует различать не по их ложности / подлинности, а по тому стилю, в котором они вообра-жаются»14. Чураевское утопическое сообщество, создаваемое Гребенщиковым и состоявшее по преимуществу из русских эмигрантов, воображалось в архаическом ключе, что стало следствием ретроутопического характера чура-евского проекта. По логике Гребенщикова, конечной целью реализации чураевской ретроутопии должна была стать организация настоящего по идеальным моделям, отыскивавшимся (а на самом деле, в значительной степени «изобретаемым», если рассуждать в терминологии Э. Хобсбаума [Hobsbawm, 1983], автором проекта) в мифологизированной Гребенщиковым отечественной истории, ключевым секулярным локусом которой для него была именно Ясная Поляна15.
Принципиально важно, что возникший в результате всех этих дискурсивных и практических усилий ретроутопический эффект был отмечен наблюдателями. Так, Петр фон Берг, периодически приезжавший в Чураевку и, соответственно, имевший возможность отстраненного взгляда, спустя многие годы вспоминает: «Я жил в двух мирах – жил в Америке зимой, осенью, весной, а летом <…> – в России, потому что Чураевка <…> была как Россия. Это была Россия старая»; «Это какое-то было магическое царство» [Гурьянов, 2011]16.
На протяжении нескольких десятилетий после смерти Толстого его алтайский «ученик» решал задачу возрождения «рассеянной» по всему миру русской культуры, чрезвычайно активно апеллируя к фигуре яснополянского «учителя». Вместе с тем статус «духовного лидера» русской эмиграции (в условиях ее напряженного религиозного поиска), которым Гребенщикова все чаще наделяли его единомышленники и корреспонденты17, и символические задачи, стоявшие перед Чураевкой, обусловили ориентацию деревни не только на Ясную Поляну, но и на скит Сергия Радонежского. Однако, несмотря на ярко выраженный палимпсестный харак-тер18 текстуализированного чураевского быта, «толстовский» субстрат (сформированный во многом именно проекциями Чураевки на Ясную Поляну) оставался важнейшим компонентом жизнестроительного сценария Гребенщикова в эмиграции.
Список сокращений
-
1. ГМИЛИКА – Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Список литературы Чураевка и Ясная поляна: рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г. Д. Гребенщикова
- Азбука с начальными молитвами по обычному переводу,//ГМИЛИКА. ОФ. Ед. хр. 15643/15.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма/пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: КАНОН-пресс-ц; Кучково поле, 2001. 288 с.
- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика/пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.
- Горбенко А.Ю. Чураевка как текст: строительство и жизнестроительство Георгия Гребенщикова//Вестник КГПУ. 2014. № 4 (30). С. 217-219.
- Горбенко А.Ю. Георгий Гребенщиков как Лев Толстой: «толстовский текст» жизнестроительства Г.Д. Гребенщикова//Алтайский текст в русской культуре: сб. ст. Барнаул, 2015а. Вып. 6. С. 99-113.
- Горбенко А.Ю. К механизмам жизнестроительства Георгия Гребенщикова: Чураевка как реплика скита Сергия Радонежского//Вестник КемГУ. 2015б. № 4 (64), т. 3. С. 193-197.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/пер. с англ. А.Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-ц; Кучково поле, 2000. 304 с.
- Гребенщиков Г.Д. В бору. URL: http://grebensch.narod.ru/forest.htm
- Гребенщиков Г.Д. Гонец. Письма с Помперага. М.: Международный Центр Рерихов, 1996. 215 с.
- Гребенщиков Г.Д. Певун-размыка-чародей, 1915//ГМИЛИКА. ОФ. Ед. хр. 467/1.
- Гребенщиков Г.Д. Письма (1907-1917)/сост., авт. предисл., примеч. (при участии В.К. Корниенко и К.В. Анисимова), указателя имен, Хроники жизни и творчества Т.Г. Черняева. Бийск: Издательский Дом «Бия», 2010. Кн. 2. 200 с.
- Гребенщиков Г.Д. План по Чураевке, нач. 1930-х//ГМИЛИКА. ОФ. Ед. хр. 699/11.
- Гребенщиков Г.Д. Собрание сочинений: в 6 т./сост., подг. текста, вступ. ст. Т.Г. Черняевой. Барнаул: Издательский Дом «Барнаул», 2013.
- Гребенщиков Г.Д. Чураевы: Лобзание змия: роман. Радонега. Статьи. Воспоминания. Барнаул: , 2007. 352 с.
- Гурьянов А. «Толкай телегу к звездам…». М.: Русский путь, 2011.
- Матич О. Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siecle в России/авторизов. пер. с англ. Е. Островской. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 400 с.
- Никитин В. «Богоискательство» и богоборчество Толстого//Прометей: историко-биографический альманах/сост. Ю. Селезнев. М.: Молодая гвардия, 1980. Т. 12. С. 113-138. (Жизнь замечательных людей).
- Обращение Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковых к русским эмигрантам в Америке с просьбой помочь в ремонте часовни Преподобного Сергия Радонежского в Чураевке. 1950//ГМИЛИКА. ОФ. Ед. хр. 663/40.
- Осипова Н. Азбука Л.Н. Толстого как идеологический проект//Лотмановский сборник/ред. Л.Н. Киселева, Т.Н. Степанищева. М.: ОГИ, 2014. Вып. 4. С. 335-348.
- Ранчин А.М. Символика в «Войне и мире»: из опытов комментирования книги Л.Н. Толстого//Ранчин А.М. Перекличка Камен: Филологические этюды. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 93-103.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1928-1958.
- Толстоноженко О.А. Карьерная траектория писателя-автодидакта на рубеже XIX-XX веков: Георгий Гребенщиков//Молодежь и наука: сб. материалов. Красноярск, 2014. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html
- Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М.: Эксмо, 2008. 752 с.
- Царегородцева С.С. Роман Г.Д. Гребенщикова «Чураевы» в социокультурном контексте эпохи: дис. … канд. филол. наук. Томск, 2005. 182 с.
- Черняева Т.Г. Гребенщиков о Льве Толстом//Алтайский текст в русской культуре. Барнаул, 2004. Вып. 2. С. 60-74.
- Чистяков В.Д. Русская деревня Чураевка в 1999 году/публ., вступ. сл. и примеч. В.М. Крюкова//Вестник ТГУ. 2003. № 277. С. 239-241.
- Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Художественная литература, 1974. 360 с.
- Эйхенбаум Б.М. Писательский облик М. Горького//Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М.: Аграф, 2001. С. 112-118.
- Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions//The Invention of Tradition/Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1-14.