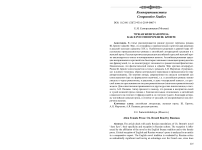Чужая женская проза: как в России прочли Ш. Бронте
Автор: Самородницкая Екатерина Ильинична
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются ранние русские переводы романа Ш. Бронте «Джейн Эйр», их специфика и переводческая и критическая рецепция в русской культуре середины XIX в. Особенности рецепции в равной мере обусловлены принадлежностью романа к английской литературной традиции и к женской прозе. Русская критическая рецепция английской и русской женской прозы анализируется в статье в компаративном аспекте. Английская романная традиция воспринимается критикой как бесспорно значимая и имеющая преимущество над французской, т.к. не демонстрирует склонности к романтической фантастике. Показательно, что фантастический эпизод в «Джейн Эйр» критика игнорирует. Роман Ш. Бронте сопоставляется в статье с романом А.Я. Марченко «Гувернантка» в аспекте тематики, образа центрального персонажа и принадлежности перу автора-женщины. По мнению автора, современники не увидели оснований для сопоставления (при их формальном наличии), т.к. в английском романе можно увидеть и черты романтизма, и реализма, и даже «натуральной школы», а в русской повести прослеживается поздняя романтическая (эпигонски-романтическая) модель. Для сопоставления привлекаются и другие русские писательницы, в частности, А.Я. Панаева. Автор приходит к выводу, что разница в восприятии своей и чужой женской прозы связана с благожелательным отношением к английской словесности (в отличие от французской) и со статусом чужого, благодаря которому английская женская проза, в отличие от русской, не воспринимается как вторичное явление.
Английская литература, женская проза, ш. бронте, а.я. марченко, а.я. панаева, русская критика
Короткий адрес: https://sciup.org/149127184
IDR: 149127184 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00074
Текст научной статьи Чужая женская проза: как в России прочли Ш. Бронте
Романное творчество Ш. Бронте трудно назвать малоизученным: это феномен, который всегда привлекал внимание исследователей. Библиография работ об английской писательнице пополняется ежегодно, если не ежемесячно. Современные англоязычные исследования Ш. Бронте демонстрируют очевидный сдвиг в сторону культурологии и междисциплинарности, при этом наибольший интерес вызывают гендерный и постколониальный аспекты изучения романов писательницы (подробнее см. [Lewis 2012]). Основным тенденциям изучения Ш. Бронте в России посвящена статья Ю.В. Дьяченко: автор констатирует, что основной интерес ученых сосредоточен на поэтике писательницы, в меньшей степени в фокусе внимания оказывается гендерная проблематика [Дьяченко 2015]. Что касается русской рецепции творчества Бронте (в частности, романа «Джейн Эйр»), то хотя она неоднократно становилась предметом специального исследования, в основном это были работы, посвященные проблемам перевода [Сыскина 2012], [Сыскина 2013], [Ямалова 2012]. Предметом настоящего исследования является история восприятия романа Ш. Бронте в России: как в России впервые прочитали роман Ш. Бронте, с чем его сравнивали, что в нем увидели и чего не увидели.
Первый перевод, а точнее, пересказ романа с элементами перевода, был опубликован в 1849 г. в журнале «Библиотека для чтения» [Литературные новости в Англии 1849, 151-172]. Он не подписан, и его принято считать анонимным [Ямалова 2012, 38]. Это не совсем точно. Во-первых, раздел «Смесь», в котором опубликованы «Литературные новости в Англии. Дженни Ир. Автобиография», подписан: под ним стоит подпись В. Дамке. Скорее всего, это не В., а Б. - Бертольд Дамке, пианист, композитор и музыкальный критик, в 1847 по 1855 г. живший в Петербурге и сотрудничавший с «Библиотекой для чтения» именно как музыкальный критик. Однако, учитывая специфику раздела, где, как правило, могли публиковаться самые разные известия, но в конкретном апрельском номере - исключительно литературные, а также принимая во внимание обще- известную степень вмешательства О. Сенковского в публикуемые в журнале тексты, можно предположить, что если сам перевод и был выполнен неким неизвестным автором, то Сенковским он был существенным образом отредактирован и транслировал, таким образом, его точку зрения на английский роман.
Основной акцент в этом переводе-пересказе делается на «английскости» романа Ш. Бронте: «книга английская, и английская в полном значении этого слова. Она наполнена духом этого саксонского поколения, грубого, если хотите, но мужественного, неутомимого в скорби, затверделого в страдании, которое не наполняет свои романы сентиментальными нежностями, а говорит сердцу о чувстве собственного достоинства и ответственности» [Литературные новости в Англии 1849, 151-152]. В нем и его героях не стоит искать достоверности и жизнеподобия: они не типичны для жанра романа и поэтому не могут служить ролевыми моделями («желание походить на них не придет вам на мысль. Отважный романист создает своих героев решительно безобразными. <...> Это воздержная и сериозная история, назначенная для того, чтобы драматизировать среднее и зависимое состояние очень интересного и многочисленного женского класса в Англии. Для иностранцев подобное описание привлекательно только по любопытству, которое находим мы узнавать чужие нравы») [Литературные новости в Англии 1849, 152-153]. Роман про английское, особенное, странное, чужое. Этим, видимо, объясняется и отбор эпизодов для перевода; рассматриваемый текст - это пересказ очень разной степени подробности, но три эпизода переведены довольно точно. Это сцена в красной комнате, первый разговор Джейн и Рочестера и сцена, в которой Рочестер рассказывает Джейн о своей французской любовнице Селине Варане. Если исходить из логики, заявленной в начале текста, становится понято, что подобный отбор эпизодов отнюдь не произволен [Костионова 2014, 133].
Сцена в красной комнате, где запирают якобы провинившуюся маленькую Джейн, где вся обстановка красного цвета и где обитает привидение (дух покойного доброго дядюшки героини), вызывает в памяти готические романы и может служить ярким примером странного и необычного. Сцена первого (на самом деле не первого) разговора двух центральных персонажей романа - это сцена, где читатель встречает совершенно нестандартных персонажей, бедную и некрасивую, но смелую в суждениях гувернантку и ее мрачного, загадочного, богатого и знатного работодателя. Рочестер рассматривается как типичный английский характер:
«Рочестер один из самых обыкновенных типов английского романа. <...> В самом образованном и утонченном англичанине есть остаток какого-то варварства. <.. > Возьмите английского аристократа в средине его жизненного поприща, в ту минуту, когда он достигает того, что Байрон называет the fullness of satiety и вообразите его историю. Это истый сын Норманов, этих гордых морских бродяг. Он видел все климаты, приставал ко всем берегам; прошел жизнь настоящим пиратом, предаваясь волнению, удовольствию, приключениям; в праздность он внес ту же пылкость, ту же ускоренную деятельность, ту же силу, ту же пылкую скорость паровой машины, которые манчестерский мануфактурист и ливерпульский негоциант применяют к промышленности или к торговле. С привычками, с ранами, с отвращением, которые подобная жизнь оставляет в сердце у вас будет смесь скрытности и вспыльчивости, странности и иронии, жестокости и скуки, которые происходят от горького опьянения сплина; будет характер Рочестера. Этот пылкий и скучающий человек забавляется однако оригинальностью, чистосердечием, особенно неведением Дженни Ир» [Литературные новости в Англии 1849, 165-166].
Те. Рочестер таков, каков он есть, потому что все англичане - морские бродяги, «чудаки»; он таков, потому что таковы англичане, а не потому, что он во многом романтический герой (хотя Байрон и упоминается автором текста, но скорее как англичанин, чем как поэт-романтик). Наконец, последний эпизод, который приводится в переводе - история взаимоотношений Рочестера с матерью Адель - это, прежде всего, история разочарования в любви (которое на тот момент читатель считает единственным), но это еще и история о том, как ветреная француженка разбила сердце мрачного, но достойного английского варвара.
Пересказ романа Ш. Бронте, опубликованный в «Библиотеке для чтения», кратко передает собственно фабулу и практически полностью игнорирует социальную (в духе «натуральной школы») и романтическую составляющие романа; остается любовная история, приправленная английскими странностями. Роман интересен, потому что он английский (странный, чужой и т.п.).
Практически одновременно с публикацией в «Библиотеке для чтения» в «Отечественных записках» выходит перевод романа Бронте, выполненный И. Введенским [Белль 1849]. Это уже полноценный перевод - пусть с купюрами, с правкой переводчика, но перевод. В исследовательской литературе, посвященной переводам Введенского, существует точка зрения, что переводчик прочел роман Бронте сквозь призму «Бедных людей» Достоевского и сместил акценты в сторону большей жалости и сочувствия («деятельная и решительная девушка превращается в усталое и забитое существо») [Сыскина 2012, 181]. Не вполне соглашаясь с этой точкой зрения (действительно, иногда Дженни Эйр Введенского задумывается о некоторых вещах, которые неинтересны героине Бронте, но, в общем и целом, решительность они проявляют в одних и тех же жизненных ситуациях), я бы обратила внимание на другое. Часто цитируется фраза переводчика о том, что он переделал, а не перевел роман, но фраза эта вырвана из контекста. «Роман “Дженни Эйр”, действительно, не переведен, а переделан мною, и это я готов теперь объявить, по секрету, одним только ученым редакторам “литературного журнала”. Стараясь по мере сил воспроизводить как можно вернее Диккенса и Теккерея, которых люблю и уважаю от всего моего сердца, я в то же время считал для себя совершенно позволительным не церемониться с английской гувернанткой (написавшей роман “Дженни...”, извините, “Джен Эйр”, под псевдонимом Коррер-Белль), которой, говоря по секрету, я вовсе не люблю и не уважаю» [Введенский 1851, 75]. Получается, что Введенский прочел Бронте как своего рода подражание Диккенсу, ухудшенную его версию. Ухудшенную еще и потому, что написан роман «английской гувернанткой». Не ставя перед собой цели вдаваться в социально-психологические аспекты гендерной проблематики, отметим, что переводчик признается, что считает роман Бронте второсортным. Он не одинок в своей позиции, английская критика и литературная общественность мыслит сходным образом; с русской критикой дело обстоит несколько иначе.
Откликов на «Джейн Эйр» довольно много, но имеет смысл остановиться на наиболее подробной из ранних критических статей - статье А.В. Дружинина «Коррер Белль и его романы Шерли и Джен Ир» [Дружинин 1852]. Критик очень подробно рассматривает проблему женщин-писательниц и отношения к ним, осуждает британскую критику за предвзятое отношение к писательницам и объясняет, в чем состоят их достоинства.
«Внимательно всматриваясь в общую массу произведений, до сих пор написанную лучшими из леди-писательниц, нам не трудно будет заметить в них одну резкую и утешительную особенность. Все эти творения, сразу получившие такую лестную и долговечную известность, писаны женщинами настоящими, женщинами без притязаний на мужской талант и мужские страсти, женщинами, созданными для семейств, для общества и не ищущими своему таланту точки опоры вне общества и семейства своего времени. Здравое и практическое воззрение на жизнь, отличающее большинство англичан, не может быть уделом одних мужчин Великобритании, а перешло во всей силе к их женам, матерям семейства, и отразилось в произведениях женщин, посвятивших себя искусству. Напрасно будете вы искать между британскими писательницами особ, усиливающихся стать выше общества, отворачивающихся от действительности и вдающихся в галлюцинации, погубившие не один замечательный талант во Франции и Германии» [Дружинин 1852,33-34].
Английская женская проза лучше французской и немецкой, ибо не отрывается от земли и не вдается в мистицизм.
Дружинин подробно пересказывает роман, включая описания детства героини в доме миссис Рид, жизнь в Ловудском приюте для сирот (т.е мотивы детства, страдания, несправедливости), в процессе пересказа одним из первых русских рецензентов обращая внимание на нереалистическую составляющую произведения: «проницательный глаз нашей Джен давно уже приметил, что замок Торнфильд имеет в себе какую-то тайну, конечно, не кровавую тайну радклиффских замков, но все-таки тайну, по-видимому имеющую некое сродство с странностями и унынием Рочестера» [Дружинин 1852, 46]. Акцентируя внимание на практицизме Бронте и ее героини, критик все же замечает отсылки к готическому роману. Однако откровен- но фантастический эпизод (когда Джейн слышит голос своего возлюбленного на изрядном расстоянии, а он, как впоследствии выясняется, слышит ее) видится Дружинину не вполне уместным.
«Нечего и говорить о том, что сцена фантастического голоса произносящего в тишине ночной имя героини романа, далеко не правдоподобна и сверхъестественная; стоило мисс Джен получить письмо от своего бывшего жениха, и автор был бы избавлен от жалкой необходимости браться за таинственность. Но книги, писанные со страстью, имеют ту важную особенность, что самые ошибки и промахи, в них встречающиеся, не производят на читателя того тягостного впечатления, с которым он подмечает их в создании хладнокровнообдуманном. Не затемняя общей идеи произведения, не задерживая его увлекательного хода, не оставаясь в памяти, сказанные недостатки словно отстают от всего сочинения и не останавливают на себе ничьего внимания» [Дружинин 1852, 52].
Таким образом, Дружинин видит достоинства романа в том, что он реалистичен и написан женщиной; все романтическое, фантастическое, сверхъестественное отсекается. И тогда встает вопрос о том, как, исходя из какой модели русские читатели (критики, переводчики) читали и интерпретировали роман Ш. Бронте (в самом деле пользовавшийся большой популярностью). Существует точка зрения, что английская женская проза воспринималась по контрасту с французской «неистовой словесностью» [Зыкова 2005, 139]; английская литература сосредоточивает в себе истинные ценности, а французская - ложные; английская литература как бы своя, французская - чужая. Однако сразу же возникает несколько возражений. Во-первых, в уже упоминавшейся статье Дружинина речь идет о французской и немецкой литературах в противоположность английской (критик упоминает немецких писательниц Ган-Ган (Ida von Hahn-Hahn) и Фанни Лёвальд), и это существенным образом меняет контекст, в котором складывается предлагаемая оппозиция. Из литературно-политического он трансформируется в собственно литературный, потому что французскую и немецкую словесность критик противопоставляет английской как романтические - «практической» (или реалистической). При этом романтическая составляющая в «Джейн Эйр» критикой не замечается, потому что не вписывается в складывающуюся схему.
Во-вторых, встает вопрос о том, как быть со своей женской прозой и почему это явление почти не рассматривается критикой в контексте разговоров об аналогичной английской и французской прозе; другими словами, как соотносятся английская и русская женская проза. Если обратиться к отзывам критики на соотечественниц-писательниц, то доброжелательных текстов мы найдем немного [Сварчевская 2014, 349]. К таковым можно отнести статью И. Киреевского «О русских писательницах (письмо к Анне Петровне Зонтаг)» (1833). «Название литератора стало уже не странностью, а украшением женщины; оно во мнении общественном подымает ее в другую сферу, отличную от обыкновенной», - утверждает критик, от- мечая далее, что говорит «только о новом поколении и частию о среднем; в старом поколении, которое привыкло видеть в женщине полуигрушку, предрассудок против писательниц еще во всей силе» [Киреевский 1979, 127]. Киреевский очевидно заблуждался относительно нового поколения: рецензии на женскую прозу, публикуемые в 1840-1860 гг, тому подтверждение. И Белинский, и Некрасов, и Писарев, и даже В. Перечников (псевдоним Н. Хвощинской), откликаясь на литературные новинки, выходящие из-под пера соотечественниц, либо говорят о неуместности самого явления «женщина-писатель» («Женщина должна любить искусства, но любить их для наслаждения, а не для того, чтоб самой быть художником» [Белинский 1953, 225]), либо судят эти тексты чрезвычайно строго, явным образом акцентируя вторичность женской прозы по отношению к настоящей - мужской («Нельзя не сознаться, что влияние женщин-писательниц в нашей литературе далеко не так благотворно, как следовало бы ожидать: они вдались в мелочность наблюдений, в фальшивый экстаз, в мелодраматическую искренность и наводнили нас по большей части утомительными болтливо-педантическими размышлениями в форме повестей, рассказов, пословиц и т.д.» [Некрасов 1990 а, 244]).
Первый текст, который напрашивается на сопоставление с романом «Джейн Эйр» - это повесть А.Я. Марченко «Гувернантка» (1847) [Марченко 1847], в центре которой история девушки, ставшей гувернанткой, чтобы спасти семью от разорения. И хотя критика встречает и первое, и второе (1854) издание повести скорее доброжелательно («много сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишком по-женски, но никогда не набеленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная, увлекательный рассказ, прекрасный язык» [Белинский 1848, 39]), но отмечает некоторую искусственность образа центрального персонажа. Это и Белинский, который в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» коротко упоминает о повести Марченко; и Н.А. Некрасов, который пишет полноценную рецензию на второе издание сборника Марченко «Путевые заметки». Отмечая, что самое привлекательное в повести - героиня-гувернантка, Некрасов говорит о том, что профессиональная (или социальная) составляющая в контексте данного сюжета выглядит весьма случайно: «в повести чувствуется какое-то раздвоение. Вы интересуетесь Еленой как женщиной и как гувернанткой, но стечение этих двух интересов для вас случайно: вы не видите между ними внутренней, неизбежной связи. Героиню можно поставить совершенно в другие обстоятельства, и это не изменит участи ее сердца. <...> Неправдоподобного тут нет ничего, и не в этом заключается ошибка: недосоздан-ность повести скрывается в случайности столкновения таких, а не других событий жизни; случайность же никогда не возвысится до единства» [Некрасов 1990 Ь, 30].
Взгляд критика очень точен: в самом деле, жизнь Елены как гувернантки почти не интересует автора; балы в хозяйском доме, любовные терзания, муки выбора - словом, обычная жизнь незамужней молодой жен- щины - составляет фабульную основу повести. Необходимость работать для героини - это именно необходимость, а не поиск себя как личности. Думается, что именно поэтому современники не увидели ничего общего между героинями Бронте и Марченко: английскую писательницу в романе о гувернантке интересует становление личности, русскую писательницу - бедность и несчастная любовь; в английском романе можно увидеть и черты романтизма, и реализма, и - в некоторой степени - «натуральной школы», в русской повести скорее прослеживается поздняя романтическая (эпигонски-романтическая) модель.
Если же взглянуть на вещи несколько шире и искать аналогичное Бронте явление в русской литературе, то нельзя не упомянуть об А.Я. Панаевой. И хотя ее роман «Семейство Тальниковых» (1847) не опубликован и поэтому очевидным образом не может быть объектом рецензирования и сопоставления, это не единственное произведение писательницы, где в центре - история женщины, история взросления, тяжелое, полное лишений детство, где отчетливо прослеживаются черты «натуральной школы». История критической рецепции творчества Панаевой еще не написана, но даже в самом первом приближении видно, что откликов немного и что они носят либо резко-отрицательный [Писарев 1864], либо очень сдержанный характер. Во втором случае в качестве примера можно привести отзыв В. Поречникова (псевдоним Н. Хвощинской): критик называет романы Н. Станицкого (псевдоним Панаевой) «грубой работой», за которой - «всегда убеждение <...>; в этих резкостях всегда много житейской правды, поднятой <...> с болезненным чувством участия и негодования» [Поречников 1862, 37-38]. Иными словами, написано плохо, но правдиво.
Почему же своя женская проза вызывает значительно меньший интерес? Думается, тому может быть несколько объяснений. Это личные знакомства и отношения, когда миловидная Панаева, хозяйка салона и т.п., не воспринимается критиками как коллега-писатель. Это восприятие отечественной женской прозы как явления вторичного по отношению либо к «натуральной школе», либо к Жорж Санд (либо к обеим сразу). Наконец, думается, что свое в принципе представляется менее значительным и интересным.
Получается, что чужая (английская) женская проза оказывается ближе русской критике, чем своя; исключение составляет Введенский, который идет вслед за англичанами, воспринимавшими своих женщин-писательниц весьма скептически. Для них своя женская проза тоже недостаточно интересна и вторична по отношению к роману первого ряда (Диккенсу, Теккерею). И если задуматься о том, почему чужая женская проза привлекательнее, то, на наш взгляд, дело в переносе акцентов: с понятия «женская» проза на понятие проза «английская». Интерес к английскому оказывается сильнее распространенного в обществе сдержанного отношения к женщинам-писательницам.

Список литературы Чужая женская проза: как в России прочли Ш. Бронте
- Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. Статья вторая и последняя // Современник. 1848 Т. 8 № 3 С. 1-46.
- Белль К. Дженни Эйр // Отечественные записки. Т. 64 С. 175-250
- Введенский И.И. О переводах романа Теккерея "Vanity Fair" в "Отечественных записках" и "Современнике" (Письмо к редактору "Отечественных Записок") // Отечественные записки. 1851 Т. 78 № 9 С. 61-80.
- Дружинин А.В. Коррер Белль его романы Шерли и Джен Ир // Библиотека для чтения. 1852 Т. 116 Отд. 5 С. 23-54.
- Дьяченко Ю.В. Литературно-критическая и научная рецепция творчества сестер Бронте в российском и англоязычном литературоведении ХХ в.: сопоставительный анализ // Вестник Томского государственного университета. 2015 № 390 С. 11-16.
- Зыкова Г.В. Поэтика русского журнала 1830-1870-х гг. М., 2005
- Киреевский И.В. О русских писательницах (Письмо к Анне Петровне Зонтаг) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ.ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979 С. 123-132.
- Костионова М.В. Перевод как фактор формирования литературной репутации писателя (на материале ранних переводов романа Ч. Диккенса "Записки Пиквикского клуба" // Вестник Московского университета. Сер. 22 Теория перевода. 2014 № 1 С. 127-142.
- Литературные новости в Англии. Дженни Ир. Автобиография // Библиотека для чтения. 1849 Т. 94 (Апрель). С. 151-172.
- Марченко А.Я. Путевые заметки: повести. Соч. Т.Ч. Одесса, 1847
- Писарев Д. И. Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби // Русское слово. 1864 № 8 Отд. 2 С. 1-58.
- Поречников В. Провинциальные письма о нашей литературе // Отечественные записки. 1862 Т. 142 № 5 С. 24-52.
- Сварчевская Т.В. О женском присутствии в русской литературе XIX в.: литературный канон и авторы-женщины // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Филология. 2014 № 3 С. 348-352.
- Сыскина А.А. Переводы XIX в. романа "Джейн Эйр" Ш. Бронте: передача характера и взглядов героини в переводе 1849 г. И. Введенского // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012 № 3 (118). С. 177-182.
- Ямалова Ю.В. История переводов романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" в России // Вестник Томского государственного университета. 2012 № 363 С. 38- 41
- Lewis A. Current trends in Brontë criticism and scholarship // The Brontës in context. Cambridge, 2012 P. 198-206.