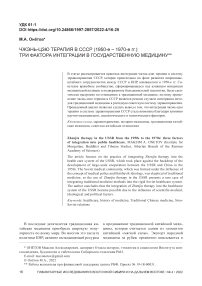Чжэнь-цзю терапия в СССР (1950-е - 1970-е гг.): три фактора интеграции в государственную медицину
Автор: Онтов Максим Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается практика интеграции чжэнь-цзю терапии в систему здравоохранения СССР, которая происходила на фоне развития широкомасштабного сотрудничества между СССР и КНР, начавшегося в 1950-е гг. Советское врачебное сообщество, сформировавшееся под влиянием концепции медицинской полиции и подверженное большевистской идеологии, было скептически настроено по отношению к традиционной медицине, поэтому применение чжэнь-цзю терапии в СССР является редким случаем интеграции методов традиционной медицины в ригидную советскую систему здравоохранения. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что интеграция чжэнь-цзю терапии в систему здравоохранения СССР стала возможна благодаря влиянию научно-медицинского, идеологического и политического факторов.
Здравоохранение, история медицины, традиционная китайская медицина, советско-китайские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/170196184
IDR: 170196184 | УДК: 61:1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-4/16-25
Текст научной статьи Чжэнь-цзю терапия в СССР (1950-е - 1970-е гг.): три фактора интеграции в государственную медицину
В последние десятилетия традиционная китайская медицина приобрела широкую популярность по всему миру. Во многом это заслуга политики КНР, активно вкладывающей ресурсы в продвижение традиционной китайской медицины, которая считается одним из элементов китайской «мягкой силы». Экспорт народной медицины за рубеж органично вписывается в образ мирной развивающейся страны, желающей поделиться с миром достижениями своей древней культуры.
Однако интересом со стороны иностранцев традиционная китайская медицина обязана не только проводимой государством политике. Задолго до образования КНР, еще с XVI в., иезуитские миссионеры привозили из Китая труды по медицине и отмечали в своих публикациях ее высокую эффективность в борьбе с болезнями [12, с. 185]. Благодаря расширению торговых связей с Европой в XVII–XVIII вв. и последовавшей за Опиумными войнами серии неравноправных договоров в Китае начался быстрый рост иностранных концессий и договорных портов. Все это способствовало большему открытию Китая для европейских врачей. На фоне политического и технологического доминирования европейских стран над Китаем не вызывает удивления их в целом пренебрежительное отношение к китайской медицине. Вместе с тем, отдельные практики китайской медицины вызвали у европейских врачей интерес.
Особое внимание к китайской медицине в XIX в. проявляли во Франции. В 1810 г. Л.-Ж. Берлиоз опубликовал статью с описанием клинического случая успешного применения иглотерапии. Русские врачи тоже интересовались китайской медициной. Так, А.А. Татаринов, работавший в составе Русской духовной миссии в Пекине, в 1853 г. опубликовал статью «Китайская медицина». Он также опубликовал на латинском языке «Перечень китайской медицины», где упоминаются 500 видов китайских трав. Л.К. Корниевский в 1876 г. опубликовал «Исторические материалы китайской медицины» [9, с. 151].
Одним из разделов традиционной китайской медицины, интересовавших иностранных врачей в наибольшей степени, была чжэнь-цзю терапия (в переводе с китайского – иглоукалывание и прижигание), она же акупунктура. Лечение посредством чжэнь-цзю терапии осуществляется через воздействие на рефлексогенные точки. Методы чжэнь-цзю терапии используются в профилактике и лечении заболеваний уже как минимум две тысячи лет. В России процесс научного изучения чжэнь-цзю терапии, включения ее в систему здравоохранения начался в 1950-е гг. Связано это было в первую очередь с активизацией широкого научно-технического сотрудничества СССР и КНР в тот период.
В рамках этого сотрудничества происходили регулярные командировки советских врачей в Китай, а китайских врачей – в Советский Союз. Изучение чжэнь-цзю терапии в СССР не прекратилось даже после значительного охлаждения отношений между Советским Союзом и КНР в 1960-е гг. Это крайне редкий случай официального признания практики народной медицины в идеологически ригидной модели системы здравоохранения Н.А. Семашко. Учитывая отсутствие медицинского плюрализма в СССР, кейс чжэнь-цзю терапии не может не вызвать интереса у историков медицины и нуждается в дальнейшем изучении.
Первенство в изучении и осмыслении роли чжэнь-цзю терапии в советском здравоохранении в постсоветской историографии принадлежит О.С. Нагорных. Она является автором работ о деятельности основоположника изучения иглоукалывания в г. Горьком (Нижний Новгород) В.Г. Вогралика и многих других работ по истории советско-китайских отношений в области здравоохранения. В работе, посвященной трансформации понятия «традиционная китайская медицина» в рецепции советского врача [5], О.С. Нагорных исследует изменения в отношении советских врачей к китайской народной медицине с точки зрения этики врача на примере изучения чжэнь-цзю терапии. Мы же предпринимаем попытку определить причины интеграции чжэнь-цзю терапии в советское здравоохранение, отвечая на ряд исследовательских вопросов. Чем объясняется исключительность примера чжэнь-цзю терапии в контексте советского здравоохранения? Чем был вызван особенный интерес советских врачей к этой практике? Были ли другие, немедицинские (политические, идеологические) причины такого интереса?
В своей аргументации мы придерживаемся точки зрения А.М. Сточика, С.Н. Затравкина, А.А. Сточика [10] о том, что непримиримое отношение российских врачей к любым альтернативным медицинским практикам являлось интегральным элементом заимствованной из Европы концепции медицинской полиции. Концепция медицинской полиции И.П. Франка подразумевала комплекс мер по охране здоровья, осуществляемый государством в целях обеспечения своей внутренней безопасности. Согласно этой концепции, принятой в Австрии, Пруссии, Швеции, Франции и России, сфера охраны здоровья становится объектом государственно- го контроля. Наряду с другими задачами, такими как профилактика и борьба с эпидемиями, разработка врачебно-санитарного законодательства, создание системы помощи социально незащищенным группам населения, концепция подразумевала борьбу с шарлатанством и создание государственной системы подготовки медицинских кадров [10, с. 42]. Основная цель проста – избавить страну от людей, предоставляющих ради наживы некачественные лечебные услуги населению, зачастую причиняющих вред здоровью. Вместе с тем, радикальность такой политики заключается в уравнивании шарлатанов, преследующих корыстные цели, и «местночтимых лекарей», практикующих народно-бытовую медицину. Таким образом, между представителями различных медицинских систем – научной государственной медицины и традиционной народной – был проведен четкий водораздел. Только официально аттестованный врач имел право заниматься лечебным делом. Разумеется, на практике ситуация отличалась, врачей c университетским образованием не хватало, и наличие альтернативы в виде знахарей и других практиков народной медицины давало населению (в том числе инородцам) доступ к медицинским услугам.
Особенностью процесса медицинской профессионализации в России было то, что врачи «взращивались» государством как опекаемое и ценное с точки зрения государственного управления сословие [3, с. 170]. Они собирали, систематизировали, облекали в понятный власти язык и подавали в правительство разнообразные сведения о населении империи, состоянии его здоровья и перспективах развития. Как утверждает Е.А. Вишленкова, каждый врач был отчасти и этнографом, на месте погружавшимся в богатство народно-бытовых лечебных практик. Однако, подобно западноевропейским коллегам, русские врачи были носителями идеи о том, что лишь европейская научная медицина имеет право на обеспечение здоровья населения в государстве. Поэтому университетски подготовленные русские врачи ощущали свое превосходство над местными лекарями, знахарями, шаманами. Приверженность идеям материализма среди ученого сообщества не могла позволить врачам допускать и мысли о полезности народной медицины, в которой магический элемент в виде «наговоров» и различных ритуалов играл едва ли не ведущую роль. «Столкновение с незападными формами лечения и объяснени- ями болезней порождало либо негодование от “дикости”, “отсталости” и “варварства”, либо высокомерную улыбку и исследовательское любопытство» [2, с. 53].
С открытиями в области микробиологии и бактериологии во второй половине XIX в. у врачей сформировались представления о гигиенической норме, т.е. о соблюдении таких условий, которые необходимы для сохранения здоровья. Гигиена становится одним из основных критериев, определяющих принадлежность к цивилизации. Отхождения от гигиенической нормы, которые были свойственны практикам различных народных медицин, врачи считали опасными для здоровья, что еще больше принижало статус народной медицины в их глазах. Тем не менее, зачастую случалось так, что крестьяне охотнее шли к местных знахарям, чем к европейски обученному врачу. На то имелся ряд причин, среди которых – недоверие к научной медицине, снисходительное отношение самих врачей к народу, проблемы коммуникации между врачом и пациентами. Например, русский исследователь народно-бытовой медицины Г.И. Попов писал: «При тяжких заболеваниях попробуют сначала домашние средства, напоят больного мятой, взвалят на печку и укроют шубами или в пару натрут редькою; обратятся также к знахарю и выполнят его нелепые предписания, и уже если и это не поможет, пойдут за советом к соседнему помещику, священнику, учителю и лишь в крайнем случае, по большей части, по настоятельному совету кого-нибудь из упомянутых лиц, повезут больного в земскую больницу» [8, с. 100]. Е.А. Вишленкова приводит такой пример: «Столкнувшись в Арзамасе с целой группой почитаемых здесь знахарей и с игнорированием штаб-лекаря, врач И. Лепехин публично заявлял о недопустимости в цивилизованной, претендующей на принадлежность к Европе стране людей “незаконно ко врачеванию рожденных”» [2, с. 54].
Таким образом, западная научная традиция и принятая в Российской империи концепция медицинской полиции сформировали мировоззрение русских врачей, одной из черт которого была радикальная приверженность научной европейской медицине, и сугубо негативное отношение к неофициальным «домашним» лечебным практикам. Разумеется, при непосредственном столкновении с народной медициной врачи были вынуждены признать рациональность в отдельных ее аспектах. Определенный интерес русских врачей к народной медицине выразился в изучении русской народной медицины, тибето-монгольской медицины и традиционной китайской медицины. Вместе с тем, единичные случаи доказанной эффективности народных методов не могли поколебать врачебной убежденности в пагубности альтернативных медицинских систем. Усугубляла ситуацию жесткая государственная политика в отношении шарлатанства в сфере медицины.
Октябрьская революция и создание первого в мире социалистического государства привнесли кардинальные изменения в область охраны здоровья. Как и во всех других сферах, идеологический аспект играл здесь ведущую роль. Основной принцип бескомпромиссной борьбы с медицинским шарлатанством в советской модели здравоохранения был даже усилен. Однако явственно ощущавшийся в периоды кризисов дефицит квалифицированных медицинских кадров, лекарственных средств и оборудования, стремление к экономии финансовых затрат часто вынуждали обращаться к средствам народной медицины, часть из рецептов которой даже вошла в государственную фармакопею [11, с. 204]. Эти немедицинские факторы в восприятии альтернативных медицинских систем во многом обусловливались особенностями государственной политики в тот или иной период советской истории.
В данном контексте интерес Министерства здравоохранения СССР к традиционной китайской медицине нуждается в дальнейшем рассмотрении. Очевидным импульсом для изучения китайской медицины были бурно развивающиеся советско-китайские отношения. Наибольшая интенсивность медицинских связей между СССР и КНР была достигнута в 1950-е гг. после подписания «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи» в 1950 г., «Соглашения о культурном сотрудничестве и технической помощи» в 1954 г. и ряда других соглашений. Происходило это на фоне широкомасштабного сотрудничества двух государств, включавшего в себя различные направления – от помощи Советского Союза в строительстве в Китае предприятий оборонной промышленности до постановки в СССР спектаклей китайского театра. Несмотря на двусторонний характер сотрудничества, соотношение объема поставок оборудования, техдокументации и отправки специалистов между странами было неравномерным. По сути, это была помощь СССР в реконструкции и модернизации страны, пережившей кровавую японскую оккупацию и гражданскую войну. Благодаря усиленной работе специалистов и заинтересованности руководств обеих стран в научно-техническом обмене за недолгий отрезок времени советские медики непосредственно ознакомились с содержанием, методами и практиками китайской медицины. Особое внимание привлекала чжэнь-цзю терапия. О широком сотрудничестве в сфере медицины и здравоохранения свидетельствуют архивные источники из фондов Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива новейшей истории, содержащие отчеты о командировках советских врачей в Китай, акты передачи документации и препаратов, контракты и договоры о строительстве в КНР фармацевтических заводов и др. Период интенсивных связей СССР и Китая продлился недолго, сотрудничество почти прекратилось в 1960-е гг. в связи с советско-китайским расколом. Тем не менее, частота и длительность командировок советских медиков в Китай с целью ознакомления с чжэнь-цзю терапией обеспечили их достаточными сведениями и эмпирическим опытом для теоретического обоснования терапии с точки зрения западной науки и самостоятельного развития этого раздела традиционной китайской медицины в советских условиях.
Важной вехой в истории изучения чжэнь-ц-зю терапии в СССР является командировка советских медицинских специалистов, направленных для работы в Министерство здравоохранения КНР в 1954–1956 гг. Отмечается активная деятельность советских медиков в ходе командировки: работа в Пекинской правительственной больнице, в медицинских институтах с целью реорганизации высшего медицинского образования, работа в китайской медицинской ассоциации для развития научной стороны в медицине, а также организация помощи различным лечебным учреждениям. Руководителем врачей-клиницистов был назначен профессор Горьковского медицинского института В.Г. Во-гралик [6, с. 79]. Его знакомство с чжэнь-цзю терапией не было целью командировки, а явилось лишь результатом его непосредственного участия в работе учреждений китайского здравоохранения. Оно послужило началом глубокого увлечения данной практикой. Впоследствии В.Г. Вогралик руководил внедрением методов чжэнь-цзю терапии при Горьковском медицинском институте.
Другим важным мероприятием является трехмесячная командировка в Научно-исследовательский институт чжэнь-цзю терапии КНР в 1956 г. советских врачей в составе профессора Э.Д. Тыкочинской, кандидата медицинских наук М.К. Усовой и ассистента Н.Н. Осиповой, причем изучение чжэнь-цзю терапии являлось непосредственной целью работы медиков. Перед специалистами Министерством здравоохранения СССР были поставлены следующие задачи: 1) изучение теории и практики чжэнь-цзю терапии; 2) освоение ее методики и техники; 3) изучение топографии точек; 4) проведение клинических наблюдений при применении метода чжэнь-цзю терапии; 5) оценка терапевтических результатов; 6) изучение и оценка существующих теорий механизма действия чжэнь-цзю терапии; 7) ознакомление с постановкой чжэнь-цзю терапии в различных лечебных учреждениях; 8) ознакомление китайских медиков с принципами и методами рефлекторной терапии, применяемыми в Советском Союзе. В отчете о результатах командировки советские медики пришли к выводу, что метод чжэнь-цзю терапии заслуживает дальнейшего углубленного изучения и развития. Огромным достоинством метода, по мнению специалистов, «является его экономичность, отсутствие необходимости в сложной дорогой аппаратуре и возможность широкого применения в самых отдаленных уголках страны» (Государственный архив Российской Федерации, далее – ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 34. Д. 247. Л. 26).
Именно командировки советских врачей в Китай в середине 1950-х гг. заложили прочную основу для изучения чжэнь-цзю терапии в СССР. Благодаря им в Советском Союзе были основаны школы рефлексотерапии, существующие и поныне: В.Г. Вограликом – в Горьком, И.И. Русецким – в Казани, Э.Д. Тыкочин-ской – в Ленинграде. Также вплоть до 1961 г. в КНР отправлялись и другие советские врачи: А.Т. Качан, Л.M. Клименко, Л.В. Колестникова, С.Л. Морохова.
В 1956 г. Министерство здравоохранения СССР поручило Центральному институту усовершенствования врачей (ЦИУВ) начать теоретическую и практическую подготовку врачей по рефлексотерапии [4, с. 76]. В 1957 г. Минздрав СССР утвердил «Временные методические указания по применению иглоукалывания и прижигания», и до 1974 г. преподавание этих методов на циклах повышения квалификации врачей входило в план работы кафедры невропатологии ЦИУВ, которую в разные годы возглавляли акад. Н.И. Гращенков, профессора Н.С. Четвериков, Л.С. Петелин. В 1959 г. приказом Минздрава СССР №106 были утверждены инструкция по применению метода иглотерапии и прижигания, а также «Показания и противопоказания к применению метода иглоукалывания и прижигания». В 1974 г. вышло в свет постановление Правительства «О принятии необходимых мер по подготовке врачей иглотерапевтов, расширению сети кабинетов в составе амбулаторно-клинических и научно-исследовательских учреждений и проведении работ в области акупунктуры» [4, с. 76]. Таким образом, китайская практика чжэнь-цзю терапии постепенно нашла свое признание и применение в медицинской системе Советского Союза.
Большим достоинством чжэнь-цзю терапии, наряду с ее эффективностью при лечении некоторых заболеваний, является ее экономичность и отсутствие необходимости в дорогостоящей медицинской аппаратуре. Это позволяло заниматься лечебными практиками в любых условиях. Однако является ли успешная интеграция чжэнь-цзю терапии в здравоохранение СССР заслугой лишь ее практических свойств? Мы считаем, что особенности изучения методов чжэнь-цзю терапии в СССР, включая причины для их изучения, заключаются в сложившемся комплексе факторов, благоприятно повлиявших на этот процесс. Условно их можно разделить на три: научно-медицинский, идеологический и политический.
Научное изучение и применение методов чжэнь-цзю терапии в СССР не могло не вызвать скептического отношения и подозрения со стороны врачебного сообщества ввиду ее специфики и недостаточной доказательной базы. Процесс включения иглорефлексотерапии в советскую систему здравоохранения и медицинского образования был сопряжен с трудностями, даже несмотря на формальную поддержку со стороны Министерства здравоохранения. Например, инициативы В.Г. Вогралика вызвали критику со стороны коллег на одном из заседаний коллегии АМН СССР, где его заклеймили как «традиционалиста» и обвинили в том, что «он хочет отбросить современную медицинскую науку на два тысячелетия назад» [1, с. 20]. Критика в отношении чжэнь-цзю терапии являлась очевидной реакцией врачей, взращенных в ригидной системе государственной медицины, где практически отсутствовал медицинский плюрализм. В таких условиях случай интеграции чжэнь-цзю терапии в медицинскую практику действительно выглядит парадоксальным. Отчасти это объясняется поддержкой руководства Министерства здравоохранения, создавшей саму возможность для интеграции. Архивные документы указывают, что одним из главных инициаторов научного изучения чжэнь-цзю терапии был И.Г. Кочергин (ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 34. Д. 247. Л. 3), в 1952–1956 гг. заместитель министра здравоохранения СССР, а с 1956 по 1959 гг. старший советник Министерства здравоохранения КНР. В 1959 г. И.Г. Кочергин вернулся на пост замминистра здравоохранения. О его позиции свидетельствует подготовленный им отчет в Минздрав «О работе советских медиков в КНР», в котором утверждалось: «Неясность или несостоятельность некоторых теоретических концепций народной медицины не могут быть основанием для безразличного и тем более отрицательного отношения к ней» [5, с. 281]. Именно И.Г. Кочергиным была направлена в КНР группа под руководством Э.Г. Ты-кочинской в 1956 г. В том же году он поручил начать теоретическую и практическую подготовку врачей по рефлексотерапии в ЦИУВ.
Одним из препятствий для внедрения метода чжэнь-цзю терапии в здравоохранение СССР являлось отсутствие у него научного теоретического обоснования. Имеющаяся у терапии собственная теоретическая база, основанная на китайских натурфилософских представлениях о жизни, в частности, на циркуляции в организме человека жизненной энергии ци, не могла считаться научной в СССР. Теоретического обоснования терапии требовала и государственная идеология. Здесь стоит отметить, что работа по научному обоснованию этого метода велась не только советскими, но и китайскими врачами, в сообществе которых шла дискуссия о статусе традиционной китайской медицины, поскольку часть врачей, настроенных радикально, выступала против ее использования в системе здравоохранения. В СССР «ученое» препятствие было преодолено, когда в качестве теоретической базы чжэнь-цзю терапии стали использовать рефлекторную теорию нейрофизиологии, что обеспечивало ее легитимность с точки зрения академической науки. Само название «чжэнь-цзю терапия» было заменено на «иг-лорефлексотерапия», она рассматривалась как часть общей рефлексотерапии, которая поми- мо иглоукалывания и прижигания также включает массаж, воздействия магнитным полем и другие методы. Помимо иглорефлексотерапии параллельно стали использоваться и другие названия, такие как «иглоукалывание и прижигание», «акупунктура», «иглотерапия». Таким образом, положительный научно-медицинский фактор заключался в возможности подведения под практику чжэнь-цзю терапии уже существующей в науке теории. В противном случае у терапии отсутствовало бы формальное право на применение в лечебной практике в СССР. Необходимо отметить, что не все исследователи согласны с тем, что включение в советское здравоохранение чжэнь-цзю терапии как «иг-лорефлексотерапии» действительно является интеграцией методов традиционной китайской медицины, так как ее теоретическая база не имеет ничего общего с классической теорией традиционной китайской медицины [9, с. 153]. Кроме того, с проблемой научного обоснования методов акупунктуры столкнулись и врачи из стран Запада. Отвергая ненаучную китайскую теорию о первоначалах инь и ян и жизненной энергии ци, они ввели новую концепцию «Акупунктура западной медицины» [13, p. 239]. Ее терапевтический эффект также объясняется с позиций нейрофизиологии, что свидетельствует о некоем консенсусе советских (а затем и российских) и западных врачей в рецепции иглоукалывания.
Идеологический фактор являлся критическим, поскольку в СССР наука находилась в подчиненном положении по отношению к государственной марксистско-ленинской идеологии. Вопросы идеологии могли использоваться как повод для остракизма и репрессий в научной среде. Возможность противоречия с идеологическими установками была велика в контексте изучения любой народной медицины. Очевидная связь народной медицины с мистическими, культовыми или религиозными практиками шла вразрез с коммунистической идеологией. В этом плане отсутствие у китайской народной медицины связей с религией положительно повлияло на процесс изучения чжэнь-цзю терапии в СССР. Это выгодно отличало ее, например, от тибетской медицины, носители которой были ламами, то есть служителями тибетского буддистского культа. Именно связь с религиозным культом послужила формальным поводом для запрета практики тибето-монгольской медицины на территории Бурят-Монгольской АССР в 1936 г. [7, с. 286] Специалисты китайской народной медицины были скорее врачами-ремесленниками. Традиция врачевания зачастую передавалась через обучение в специальных учебных заведениях традиционной медицины либо в пределах одной семьи, переходя от старшего поколения к младшему. И хотя древнекитайские метафизические представления о первоначале природы и жизни, на которых основана традиционная китайская медицина, имеют связи с даосизмом и буддизмом, они не выходят за рамки древнекитайской философии. Поэтому, хотя китайская медицина считалась ненаучной, она не носила ярлыка религиозности, что не вызывало прямых противоречий с государственной идеологией. Замена китайской метафизической теории на научную рефлекторную теорию в качестве базы для иглоукалывания и прижигания еще больше нивелировала возможность идеологического противоречия.
Политический фактор, вероятно, сыграл ключевую роль в возможности и успехе интеграции чжэнь-цзю терапии в здравоохранение СССР. Во-первых, развитие и укрепление отношений Советского Союза и Китая, выразившееся в тесном научно-техническом сотрудничестве, создало все условия для беспрепятственного обмена достижениями в области медицины и здравоохранения двух стран. Во-вторых, официальная позиция руководства КНР, признававшего практическую эффективность и ценность традиционной китайской медицины для китайской культуры, а также предпринимаемые Китаем собственные мероприятия, направленные на ее научно-теоретическое изучение, способствовали ее положительной оценке и в СССР. В-третьих, применение китайских лечебных практик на территории СССР свидетельствовало бы о признании Советским Союзом достижений китайской культуры, что могло благоприятно сказаться на двусторонних отношениях. Наконец, если бы изучение чжэнь-цзю терапии не началось в середине 1950-х гг. на пике дружественных отношений СССР и КНР, то сама возможность для ее изучения в Советском Союзе была бы под вопросом, поскольку в 1960-х гг. началась советско-китайская конфронтация, которая длилась более 20 лет и практически положила конец любым научно-техническим связям.
О внимании руководства СССР к проблеме китайской народной медицины в контексте от- ношений с Китаем свидетельствует случай с отставкой в 1955 г. замминистра здравоохранения КНР Хэ Чена. Посольство СССР в КНР сообщило, что Хэ Чен был снят со своего поста из-за того, что он «принижал положительное значение китайской народной медицины и запретил ее применение в лечебной практике». Примечательно то, что Хэ Чен в этом ссылался на статью «Китай» из 21 тома Большой советской энциклопедии, в которой китайская медицина была названа «мистической и антинаучной системой врачевания». В письме в ЦК КПСС заместителя заведующего Отделом ЦК по связям с иностранными компартиями И. Виноградова и заведующего сектором Отдела ЦК И. Щербакова в связи с тем, что в «китайской печати вопрос о народной медицине пересматривается и отмечаются ее положительные стороны», содержится предложение обязать редакцию БСЭ пересмотреть вопрос об оценке китайской народной медицины при повторном издании и поручить редакции журнала «Советская медицина» издание статьи с целью критики этой ошибочной оценки в БСЭ (Российский государственный архив новейшей истории, далее – РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 308. Л. 7).
Кроме того, 21 апреля 1957 г. советником советского посольства в КНР П. Абрасимовым в ЦК КПСС было направлено письмо, содержащее крайне положительную оценку эффективности разных разделов китайской народной медицины. Абрасимов пишет: «Для того, чтобы воспринять многолетний опыт и знания народных врачей, а также удовлетворить растущие потребности народа в медицинской помощи, Министерство здравоохранения КНР развернуло во всекитайском масштабе движение за учебу врачей западной медицины у врачей народной медицины. … В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду открыты 4 института народной медицины, готовящих для народной медицины и фармакологии квалифицированные кадры». Чжэнь-цзю терапию Абрасимов называет самым популярным методом народной медицины, дающим хороший эффект при лечении паралича лицевого нерва, радикулитов, артритов, бронхиальной астмы и др. Также в письме он приводит примеры лечения с использованием лекарств народной медицины различных инфекционных болезней. Абрасимов посчитал, что в Советском Союзе располагали «очень скудными знаниями по многим вопросам народной медицины», поэтому предложил ряд мероприятий, направленных на изучение китайской народной медицины, например, направить в КНР для учебы в институтах народной медицины 30–40 студентов старших курсов медицинских вузов, обязать Минздрав СССР подобрать бригаду советских врачей в количестве 50–60 человек для изучения иглоукалывания и прижигания сроком не менее одного года, организовать в одном из крупных городов СССР институт или специальную лабораторию по изучению иглотерапии и практического ее применения и др. (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 47. Д. 217. Л. 90–92). В июне 1957 г. министр здравоохранения М.Д. Ковригина отправила в ЦК КПСС отчет о проделанной и запланированной работе по изучению методов китайской народной медицины, который являлся ответом Министерства на письмо Абрасимо-ва (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 47. Д. 217. Л. 103–105). Очевидно, что, отправляя письмо, он не был осведомлен о проводимых в министерстве работах. Примечательно то, что мероприятия, выполняемые Минздравом, во многом перекликались с его предложениями. Таким образом, заинтересованность непрофильных по специализации ведомств, но влияющих на политическую повестку СССР (МИД), также свидетельствует о том, что вопрос изучения чжэнь-цзю терапии имел политический подтекст.
Интересным фактом, косвенно подтверждающим интерес руководящих лиц СССР к чжэнь-цзю терапии и китайской народной медицине в целом, является командировка в Китай группы врачей Четвертого главного управления Министерства здравоохранения СССР – О.М. Шестеровой, Н.Г. Лусниякян и Н.И. Ладыгиной с мая по сентябрь 1958 г. Задачей группы было изучение основ чжэнь-цзю терапии, ознакомление с постановкой чжэнь-цзю терапии в различных лечебных учреждениях, изучение основ пневмотерапии и ознакомление с древней китайской лечебной гимнастикой «тай-цзы» (ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 34. Д. 501. Л. 20). В обязанности 4-го главного управления Минздрава входило медицинское обслуживание политической элиты государства. В Советском Союзе на тот момент изучение чжэнь-цзю терапии велось уже минимум два года, вероятно, что эффективность метода и его положительные оценки со стороны ряда советских медиков привлекли непосредственное внимание руководства страны.
Включение такой практики традиционной китайской медицины, как чжэнь-цзю терапия, в здравоохранение СССР является редким и потому заслуживающим внимания примером интеграции методов альтернативной медицины в государственную систему здравоохранения. Подводя итог, можно утверждать, что интеграция чжэнь-цзю терапии являлась как результатом интереса отдельных советских врачей к ее эффективности и экономности, так и в значительной мере следствием удачно сложившихся обстоятельств – научно-медицинских, идеологических и политических. Во многом существование этих факторов при включении чжэнь-цзю терапии в официальную медицинскую практику предопределило саму возможность этого процесса: теоретическое обоснование в контексте современной медицинской науки, отсутствие противоречий с коммунистической идеологией и инструментальное значение в политическом сближении с могучим идеологическим союзником – Китайской Народной Республикой, все громче заявляющей о себе в мировом сообществе. Таким образом, изучение вопроса интеграции методов альтернативной медицины в государственную систему здравоохранения требует комплексного подхода. Интеграцию следует рассматривать не только с точки зрения сугубо практических качеств самих методов, но и с точки зрения других, влияющих на этот процесс немедицинских факторов.
Список литературы Чжэнь-цзю терапия в СССР (1950-е - 1970-е гг.): три фактора интеграции в государственную медицину
- Василенко А.М. Методология традиционной китайской медицины в аспекте современной науки // Международный журнал «Содружество». 2017. № 19. С. 19-25.
- Вишленкова Е.А. «Выполняя врачебные обязанности, я постиг дух народный»: самосознание врача как просветителя государства (Россия, первая половина XIX в.) // Ab Imperio. 2011. № 2. С. 47-79.
- Гатина З.С., Вишленкова Е.А. Система научной аттестации в медицине в России в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2014.№ 1. С.168-178.
- Гойденко В., Тян В. Развитие рефлексологии и создание государственной научно-практической службы рефлексотерапии в России // Врач. 2013. № 11. С. 75-78.
- Нагорных О С. Трансформация понятия «традиционная китайская медицина» в рецепции советского врача: социокультурные контексты этики медицины // Вопросы истории. 2021. № 11-2. С. 277-287.
- Нагорных О.С., Шок Н.П. Командировки советских врачей в КНР в 1950-1960-е гг.: реализация планов сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 65. С. 75-85.
- Номогоева В.В. Тибетская медицина в Бурятии в контексте социальной модернизации 1920-30-х гг. // Acta Biomedica Scientifica. 2009. № 3. С.284-286.
- Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина: по материалам этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903.
- Самойленко В.В. Глобализация традиционной китайской медицины // Проблемы Дальнего Востока. 2019. № 6. C. 150-155.
- Сточик А.М., Затравкин С.Н., Сточик А.А. Становление государственной медицины во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Сообщение 2. Создание государственных систем подготовки медицинских кадров и призрения социально незащищенных групп населения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 2. C. 41-45.
- Таранова А.С., Удалова С.Н. Лекарственные препараты, открытые и синтезированные в годы Великой Отечественной войны // Медицина в годы Великой Отечественной войны. Материалы IV научно-теоретической онлайн-кон-ференции (с международным участием) (Курск, 18 мая 2021 г.). Курск: Курский государственный медицинский университет, 2021. С. 203-206.
- Ху Я., Арташкина Т.А. Китайская традиционная медицина в контексте социокультурной глобализации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 9. Ч. 1. С. 184-189.
- Jabbari, A., Tabasi, S. and Masrour-Roudsari, J., 2019. Western medical acupuncture is an alternative medicine or a conventional classic medical manipulation. Caspian Journal of Internal Medicine, Vol. 10, no. 2, pp. 239-240.