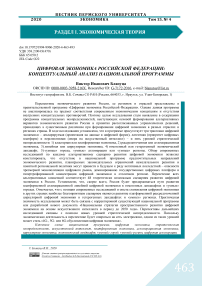Цифровая экономика Российской Федерации: концептуальный анализ национальной программы
Автор: Блануца Виктор Иванович
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 4 т.15, 2020 года.
Бесплатный доступ
Перспективы экономического развития России, ее регионов и отраслей представлены в правительственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Однако данная программа не анализировалась на предмет соответствия современным экономическим концепциям и отсутствия внутренних концептуальных противоречий. Поэтому целью исследования стало выявление в содержании программы концептуальных неопределенностей, выступающих основой формирования альтернативных вариантов экономического развития России и принятия рассогласованных управленческих решений, приводящих к существенным различиям при формировании цифровой экономики в разных отраслях и регионах страны. В ходе исследования установлено, что в программе присутствует три трактовки цифровой экономики - декларируемая (ориентация на данные в цифровой форме), латентная (приоритет цифровых платформ) и перспективная (опора на искусственный интеллект) - и пять уровней стратегической неопределенности: 1) кластерная или платформенная экономика, 2) рассредоточенная или агломерационная экономика, 3) линейная или циркулярная экономика, 4) гомогенный или гетерогенный экономический ландшафт, 5) «умные» города, «умные» агломерации или «умные» регионы. Обзор современных исследований по каждому альтернативному сценарию развития цифровой экономики позволил констатировать, что отсутствие в национальной программе предпочтительных направлений экономического развития, планируемых законодательных ограничений нежелательного развития и понятной региональной политики могут привести в будущем к ряду негативных последствий - опасности чрезмерной монополизации цифрового рынка, доминированию государственных цифровых платформ и гипертрофированной концентрации цифровой экономики в столичном регионе. Пересечение всех альтернативных концепций соответствует 48 теоретически возможным сценариям развития цифровой экономики в России. Установлено, что, скорее всего, Россия будет придерживаться пути развития платформенной агломерационной линейной цифровой экономики в гомогенных ландшафтах и «умных» городах. Отмечается, что с позиции современных исследований и опыта становления цифровой экономики в других странах наиболее благоприятным сценарием является развитие платформенной рассредоточенной циркулярной цифровой экономики в гетерогенных ландшафтах и «умных» регионах. Практическая значимость исследования может быть связана с корректировкой существующей национальной программы или разработкой нового документа «Национальная стратегия пространственного развития цифровой экономики на основе искусственного интеллекта в период до 2050 года». Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском новых уровней стратегической неопределенности. Поскольку экономическая деятельность в перспективе будет опираться на сеть электросвязи, одним из таких уровней может стать «4G-, 5G- или 6G-обусловленная цифровая экономика».
Национальная программа, цифровая экономика, стратегическая неопределенность, искусственный интеллект, платформенная экономика, агломерационная экономика, циркулярная экономика, экономический ландшафт, "умный" город, "умный" регион, цифровая агломерация
Короткий адрес: https://sciup.org/147246822
IDR: 147246822 | УДК: 338.2:004.9(470) | DOI: 10.17072/1994-9960-2020-4-463-493
Текст научной статьи Цифровая экономика Российской Федерации: концептуальный анализ национальной программы
В развитых странах в XXI в. происходит переход к цифровой экономике в соответ- ствии с национальными стратегиями и программами (например, “Digital Economy Agenda” в США, “Internet Plus” в КНР, “Digital Strategy” в Великобритании) [1]. В нашей стране программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена в июле 2017 г. (далее – Програм-ма)1. На ее основе разработан соответствующий национальный проект, паспорт которого утвержден в декабре 2018 г. и опубликован в феврале 2019 г. (далее – Паспорт)2. Программа, закрытая в связи с утверждением национального проекта, задала государственные приоритеты развития цифровой экономики, а Паспорт конкретизировал их по плановым показателям, срокам, исполнителям и финансированию. В целях дальнейшей конкретизации стратегических мер по развитию цифровой экономики в РФ были разработаны следующие федеральные проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Паспорта данных федеральных проектов утверждены в мае 2019 г. Среди этого множества официальных документов при анализе российской стратегии развития цифровой экономики целесообразно опираться на Программу, так как в ней сосредоточены все теоретические (концептуальные) установки, а к Паспорту и проектам обращаться в случае необходимости дополнительных уточнений.
Отечественное научное сообщество активно обсуждало положения Програм-мы3. Так, например, критическую оценку получили трактовка цифровой экономики и цели программы [2], управление рисками ее реализации [3], приоритеты промышленного развития [4], концепция и структура программы [5]. Однако в перечисленных и других публикациях Программа не анализировалась с использованием инструментария современных экономических концепций на предмет установления концептуальной непротиворечивости положений официального документа. Такие исследования принято называть концептуальным анализом [6], который наиболее применим в обзорах по институциональной экономике [7–10] и нацелен на выявление в определениях, положениях и установках различных неопределенностей, противоречий, несоответствий существующим концепциям экономического развития и «несбалансированных акцентов» (термин взят из обзора инновационных экосистем [11]).
Целью исследования является выявление в содержании программы «Цифровая экономика Российской Федерации» концептуальных неопределенностей, выступающих основой формирования альтернативных вариантов экономического развития России и принятия рассогласованных управленческих решений (об опасности таких решений см. [12; 13]), приводящих к существенным различиям при формировании цифровой экономики в разных отечественных отраслях и регионах. Поэтому концептуальный анализ был направлен на выявление в Программе теоретических «развилок», которых не должно быть в «идеальной» стратегии, поскольку они могут привести к альтернативным сценариям экономического развития. Перед переходом к обоснованию таких развилок целесообразно проанализировать сущность понятия «цифровая экономика».
Официальная трактовка, латентный смысл и перспективное понимание цифро вой эко номики
Первоначальное понимание цифровой экономики связывалось с возможностью значительного снижения трансакционных издержек за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий [14].
Поэтому изначально смысл новой экономики заключался в цифровизации деятельности экономических агентов. Дальнейшее существенное расширение этого понимания позволило сформировать современное множество различных трактовок [15]. В первом абзаце Программы отмечено, что «данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет». Здесь акцент сделан на «данных», что позволяет получить следующее определение цифровой экономики: это хозяйственная деятельность с использованием данных в цифровой форме. Однако в любой хозяйственной деятельности применяются «данные в цифровой форме», и от этого она не становится «цифровой экономикой». Если данные являются «ключевым фактором производства», то возникает вопрос, какие новые товары (услуги) получает общество и какова специфика их распределения, обмена и потребления. Программа не дает ответа на этот вопрос. Более того, совершенно непонятно, за счет чего в цифровой экономике будет формироваться валовая добавленная стоимость. Подобная неопределенность порождает «парадокс Солоу» [16– 18], когда инвестиции в информационнокоммуникационные технологии не приводят к росту прибыли и производительности труда, а лишь обусловливают необходимость дальнейших инвестиций. В этом случае реализация Программы не будет способствовать экономическому росту.
Несбалансированный акцент на «данных» в официальной трактовке цифровой экономики формирует неправильное представление о целевых показателях. Так, в разделе VI Программы представлен набор показателей, содержащий «успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем)», «доля населения, обладающего цифровыми навыками, – 40 процентов», «доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, – 5 процентов» и др. Исходя из их анализа остается неясным, как данные показатели отражают добавленную стоимость или другие экономические параметры. Скорее всего, 12 показателей Программы относятся к развитию информационного общества, а не собственно экономики. Неопределенность официальной трактовки нашла отражение в научных исследованиях. Например, уровень развития цифровой экономики в регионе предлагается оценивать с помощью множества показателей, среди которых «доля граждан, участвующих в голосовании в электронном виде по вопросам благоустройства, ЖКХ, строительства дорог» и «время реакции на обращение граждан в службу 112, включая сигналы системы ЭРА ГЛОНАСС» [19]. Это называется цифровой экономикой? В другом исследовании в качестве показателей используются в том числе «плотность населения» и «производство электроэнергии на душу населения» [20]. Здесь парадоксален результат объединения российских регионов в группы: к «пассивным регионам», которые, имея благоприятные условия, не добились должного уровня цифровизации, отнесена Московская область, а в группу «сбалансированных регионов», имеющих уровень цифровизации, соответствующий условиям и развивающийся поступательно, попали территории с совершенно разным потенциалом развития цифровой экономики – Ненецкий и Чукотский автономные округа, Новосибирская и Свердловская области [20, с. 84].
Скрытый (латентный) смысл можно выявить с помощью анализа распределения ключевых терминов в тексте документа. В Программе часто (не менее 10 раз) встречаются следующие термины: «циф- ровая экономика» (70 раз), «цифровая технология» (48), «данные» (16), «информационная безопасность» (15), «цифровая платформа» (14), «информационная инфраструктура» (10) и «Интернет» (10). Для понимания того, как рассматриваемый термин, обозначающий соответствующее понятие, может определяться через какой-то другой термин, необходимо зафиксировать частоту их следования друг за другом. Если в тексте после термина (понятия) А располагается термин Б, то допускается, что знание об А позволяет понять Б. При этом необходимо исключить «информационный шум», связанный со стилем изложения и редко встречающимися терминами. Стиль разработчиков Программы заключался в постоянном использовании термина «цифровая экономика». Понятно, что это является темой документа, но повсеместное следование А после А свидетельствует о плохом редактировании документа (пример из первого абзаца раздела IV: «В целях управления развитием цифровой экономики настоящая Программа определяет цели и задачи в рамках 5 базовых направлений развития цифровой эко-номики_»; курсив мой - В.Б.). Аналогичная повторяемость характерна и для остальных шести терминов. Исключив эту ситуацию (А после А) и учитывая только доминирующие сочетания (частота встречаемости Б после А не менее 0,5), установлено, что в Программе наиболее часто после «цифровая платформа» следует «цифровая технология» (с частотой 0,75) и после «цифровая технология» - «цифровая экономика» (0,56). На этом основании можно идентифицировать латентный смысл: цифровая экономика - это хозяйственная деятельность с применением цифровых технологий, доступ к которым осуществляется преимущественно через цифровые платформы.
Если в официальной трактовке акцент сделан на «данных в цифровой форме», то в латентной - на «цифровой платформе». Получается, что разработчики Программы декларируют необходимость использования данных и скрыто (случайно или специально) обязывают использовать цифровые платформы. При этом запланировано создание «не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем)» и «не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ». Разработке, внедрению и эксплуатации различных цифровых платформ (преимущественно государственных) посвящены 22 пункта Паспорта. Платформы будут созданы не в одной, а в разных сферах деятельности (возможно, «не менее 10» сфер). Не исключено, что посредством реализации национальной программы планируется монополизация будущих цифровых рынков России. По крайней мере, судя по Паспорту, роль государства и компаний с государственным участием существенно усилится при переходе к цифровой экономике.
Согласно Программе будущее цифровой экономики России связано с внедрением «сквозных цифровых технологий». Скорее всего, под «сквозными» понимаются технологии, пронизывающие все сферы человеческой деятельности, а не только различные отрасли экономики (в Паспорте указывается на необходимость внедрения этих технологий в здравоохранение, образование и другие сферы общества). К таковым по Программе отнесены девять технологий: «большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей» (в Паспорте федерального проекта «Цифровые технологии» из названия одной технологии удален термин «нейротехнологии»). Известно, что данные технологии характерны для четвертой промышленной революции, или «Индустрии 4.0» [21–26]. Реализация перечисленных цифровых технологий позволит существенно увеличить производительность труда и валовую добавленную стоимость, в том числе за счет объединения товаров и услуг в режиме реального времени (в новой экономике будет осуществляться производство, распределение, обмен и потребление «сервпродуктов» по
[27]). Из девяти технологий «сквозной» (пронизывающей остальные технологии) и экономически наиболее значимой является искусственный интеллект [28–30]. Поэтому в качестве перспективного понимания можно ориентироваться на следующее определение: цифровая экономика – это хозяйственная деятельность с применением производственных, транспортных и сервисных систем искусственного интеллекта. Не исключено, что на федеральном уровне управления присутствует именно такое понимание перспектив, так как только по этой технологии утверждена национальная стратегия развития1.
Кластерная или платформенная экономика
В Программе нет указания на то, какая именно цифровая экономика – кластерная или посткластерная (платформенная) – будет развиваться в России. Отсутствие этого ориентира создает стратегическую неопределенность для отечественных регионов и отраслей. Для современной российской экономики более понятно создание территориальных кластеров, а в Программе акцент делается на развитии цифровых платформ. При этом цифровая экономика может идти по пути развития как кластеров [31–34], так и их альтернативы в виде платформ [35–38]. Если ориентироваться на латентный смысл цифровой экономики по Программе, то будущее за цифровыми платформами. Однако в этом случае имеется значительный риск монополизации цифровых рынков и злоупотреблений доминирующим положением «компаний-лидеров» по барьеру входа на рынок, ценовой дискриминации и потенциалу технологического совершенствования [39]. При этом возможна «стратегия охвата платформы», при которой доминирующая платформа одного цифрового рынка через данные и взаимодействия со своими пользователями захватывает другой рынок. Для этого не существует препятствий, кроме специального государственного регулирования [40]. Аналогичная ситуация может сложиться при формировании цифровой экономики на основе искусственного интеллекта [29]. Тем не менее подобная проблематика не рассматривается в Программе, что открывает путь к монополизации будущих цифровых рынков России. Отдельной проблемой является проникновение на российский рынок зарубежных платформенных компаний. Несмотря на оптимистическую оценку возможности сосуществования отечественных и иностранных платформ [41], исследования по другим странам свидетельствуют об иной ситуации. Например, о вкладе международной цифровой платформы краткосрочной аренды жилья Airbnb в усиление жилищного кризиса в Ирландии [42] и вытеснение долгосрочных арендаторов в туристических регионах Греции [43].
Кластерный подход относительно проработан и апробирован [44–46], что не характерно для платформенного подхода, находящегося в стадии становления [47]. О специфике последнего можно судить по деятельности крупных платформенных компаний (Airbnb, Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, eBay, Facebook, Microsoft, Netflix, Oracle, Tencent, Uber, Yachoo и др.). Если кластерный подход опирается на создание цепочек стоимости во взаимодополняющих компаниях на некоторой территории, то при платформенном подходе добавленная стоимость формируется в цифровой экосистеме, в которой различные экономические агенты взаимодействуют на основе многосторонней платформы [48; 49]. На примере TripAdvisor было показано, что платформа может трансформироваться от поисковой системы через платформу социальных сетей к экосистеме сквозных сервисов [50]. При этом реализация концепции «цифровой бизнес-экосистемы» [51] привела к стремительному росту количества платформенных компаний. Однако надо учитывать, что большинство из них не выдерживают конкуренции и через некоторое время закрываются. Например, за послед- ние двадцать лет из 252 американских платформ 209 признаны неконкурентоспособными. Средняя продолжительность их существования составила 4,9 года1. В связи с этим возникает ряд вопросов. Учитывалась ли подобная статистика при формировании Программы? Каковы основания для того, что «не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем)» будут эффективно функционировать после 2024 г.? Программа не дает ответов на эти вопросы. Непонятна также возможность существования малого бизнеса как в период государственной поддержки, так и после него (по Паспорту до 31 декабря 2024 г. планируется поддержать 600 малых предприятий в области сквозных цифровых технологий). При этом функционирующие небольшие компании нуждаются в реконфигурации существующих цифровых экосистем [52] и оптимизации своего периферийного положения в одной экосистеме за счет вхождения в другие [53]. Будет ли это возможно в России при доминировании «компаний-лидеров»?
Отсутствие в Программе хотя бы упоминания о необходимости государственной региональной политики в области формирования цифровых кластеров или платформ может привести к чрезмерной территориальной концентрации цифровых компаний в столице. Так, например, анализ межрегионального перераспределения интернет-трафика показал (по состоянию на 1 июля 2017 г.), что в Российской Федерации доминирует Московский кластер, объединяющий автономные системы (сети) из 73 регионов (не менее 50% трафика поступает от столичных операторов), и только в 12 регионах сформировались 9 относительно независимых кластеров [54]. Такая «столица-ориентированная» территориальная структура информационных потоков не является устойчивой в силу сосредоточения ключевых операторов в одном городе. Применительно к цифровым плат- формам аналогичные исследования не про- водились, но это не исключает, что все запланированные по Программе операторы экосистем будут размещены в Москве. Со столичной точки зрения такая локализация головных офисов компаний-лидеров является целесообразной, а с позиции регионов – нет. Если в кластерной экономике суще- ствует возможность регионального экономического роста за счет собственных территориальных кластеров, то при платфор- менном подходе основные дивиденды получает оператор экосистемы, который может находиться в любом городе мира. Тогда экономическое развитие регионов будет зависеть от вовлеченности экономических агентов в общероссийские и глобальные экосистемы и успешности их деятельности. Представляется, что включение нового платформенного образования – «территориальной цифровой платформы» [55] – в концепцию цифровых экосистем может обеспечить появление собственных платформ с экосистемами в регионах РФ. Так, на примере Сибирского федерального округа было показано, что при сверхмалой задержке сигнала в оптоволоконных сетях существует возможность организации четырех территориальных платформ, на базе которых могут формироваться как кластеры, так и экосистемы [55]. Оба альтернативных пути развития могут способствовать как концентрации экономической деятельности на ограниченной территории, так и ее относительно равномерному рассредоточению по территории, что обусловливает обращения к вопросу об агломерационных эффектах в цифровой экономике.
Рассредоточенная или агломера- ционная экономика
Ц ифровую экономику, согласно Программе, планируется развивать на территории всей
Российской Федерации. Из этого следует, что в каждом из 85 субъектов (регионов) экономические агенты будут осуществлять свою деятельность с использованием «данных», цифровых платформ и систем искусственного интеллекта. Однако для регионов и отраслей существует неопределенность в выборе стратегии простран- ственного развития цифровой экономики, поскольку в Программе не заданы национальные приоритеты такого развития. В экономической теории имеются разные точки зрения по поводу выбора наиболее эффективного пути пространственного развития. Этому посвящены, к примеру, концепции «полюсов роста» [56–58], «центр – периферия» [59] и «новой экономической географии» [60–62]. Не вдаваясь в особенности перечисленных и аналогичных концепций, отметим, что в них в основном рассматривается соотношение между агломерационными (силы концентрации, сжатия) и дисперсионными (силы рассеивания, равномерного распределения) процессами пространственного развития [63–65]. С этих позиций целесообразно различать два альтернативных пути, ведущих к рассредоточенной (дисперсионной) или агломерационной экономике. К настоящему времени наиболее теоретически обоснован второй путь [66–70], а движение в другом направлении упоминается в основном как идеальная противоположность чрезмерной концентрации хозяйственной деятельности на ограниченной территории. При этом предпочтение агломерационной экономики не является окончательным [71], поскольку имеются теоретические [72; 73] и эмпирические [74] проблемы ее реализации.
В гетерогенном экономическом пространстве установление дисперсного равновесия не представляется возможным [75], но, несмотря на это, рассредоточенная экономика имеет своих сторонников [76; 77], которые выстраивают аргументацию на невозможности решения ряда экономических, социальных и экологических проблем в рамках агломерационной экономики. Особенно популярны идеи выравнивания экономического пространства и сглаживания межрегиональных социальноэкономических различий в официальных (государственных и межгосударственных) стратегиях и программах регионального развития [78; 79]. В Европейском союзе на подобных идеях построена политика «территориального сплочения» [80; 81]. Теоретической основой выравнивания простран- ства является концепция «экономической конвергенции» [82–84], согласно которой траектории социально-экономического развития регионов сходятся к одному или нескольким иерархическим уровням. В первом случае получается абсолютная (общая), а во втором – относительная (клубная) конвергенция. Современная ситуация среди европейских регионов характеризуется клубной конвергенцией [85–87], что лишний раз подчеркивает трудность перехода к рассредоточенной экономике, которой соответствует абсолютная конвергенция. Если в Российской Федерации развитие цифровой экономики будет проходить совместно с реализацией стратегии пространственного развития1, нацеленной на «сглаживание межрегиональных различий», то в качестве перспективного ориентира может рассматриваться построение рассредоточенной цифровой экономики. Однако российская стратегия пространственного развития содержит много противоречий, одно из которых заключается в достижении цели «сглаживания» посредством развития «перспективных центров экономического роста» и «перспективных экономических специализаций» регионов. Государственная поддержка центров роста в виде городских агломераций и отдельных городов явно указывает на стимулирование агломерационных процессов, а неравномерное распределение перспективных специализаций по регионам, приводящее только к клубной конвергенции [88], лишний раз подчеркивает следование идеям агломерационной экономики.
Запуск агломерационных процессов в современном мире происходит путем самоорганизации [72; 89], а государственные стратегии и программы только стимулируют или сдерживают силы территориальной концентрации [78; 90; 91]. Что касается цифровой экономики, то по результатам первых исследований дисперсионных и агломерационных процессов можно судить о преобладании последних [92; 93]. При изучении процессов территориальной концентрации хозяйственной деятельности обычно выявляются различные агломерационные эффекты, в том числе экстерналии (внешние эффекты) [94-96]. Среди них наибольшее внимание уделяется росту производительности труда в агломерациях по сравнению с территориями рассредоточенной экономики [97–101]. Имеются оценки, согласно которым в мировой экономике с 1970-х гг. наблюдается последовательное снижение производительности труда, и эту тенденцию может прервать только переход к цифровой экономике [102]. При этом надо учитывать, что обычно эффекты оцениваются по отношению к городским агломерациям, делимитация которых проводилась по различным национальным критериям, никак не связанным с цифровой экономикой. Например, в нашей стране в советское время был предложен подход к выделению агломераций по полуторачасовой (плюс получасовой от удаленных больших городов-спутников) транспортной доступности ядра (города -центра агломерации) при условии определенной его людности и еще некоторых уточнений [103]. Это позволяло с помощью 2-часовой изохроны оконтурить городские поселения, входящие в агломерацию. Такой подход учитывал маятниковую трудовую миграцию, но не цифровое агломерирование городов. К настоящему времени известен только один алгоритм идентификации цифровых городских агломераций. В нем территориальное скопление городов выделяется изохроной в одну миллисекунду задержки сигнала в волоконно-оптических линиях связи между ядром и соседними городами [104]. Реализация алгоритма привела к делимитации 43 цифровых («умных») агломераций в Российской Федерации.
В свою очередь, как агломерирование, так и рассредоточение экономической деятельности может быть однонаправленным или замкнутым, что обусловливает необходимость перехода на другой уровень неопределенности, связанный с линейной или циркулярной экономикой.
Линейная или циркулярная экономика
Следующая стратегическая неопределенность для отечественных отраслей и регио- нов, вызванная отсутствием в Программе ориентиров в отношении сохранения или удлинения цепочки создания стоимости, связана с дихотомией «линейная или циркулярная экономика». Русский термин «циркулярная экономика» является «калькой» английского термина “circular economy”, а иногда у нас используются равнозначные термины «круговая экономика» и «циклическая экономика». Основой «линейной экономики» является конечный процесс «ресурсы - продукты - потребление - отходы», который преобладает в настоящее время [105; 106]. В 1980-х гг. появилась идея добавить звено «отходы -ресурсы» и тем самым сформировать замкнутый цикл, но только в 2010-х.гг. эта идея наполнилась методологическим смыслом и превратилась в промышленную стратегию [107]. К примеру, данная стратегия доминирует в политике устойчивого развития Европейского союза и Китая [108]. При этом следует отметить, что существует большое разнообразие в понимании циркулярной экономики [109], а некоторые положения концепции вызывают критические замечания [110; 111]. Циркулярная экономика относится к зонтичным концепциям (объединение различных систем взглядов на достижение единой цели), а ее специфика представлена в обзорных публикациях [106; 112–115]. В данном случае хозяйственная деятельность выстраивается в соответствии с принципами 3R (“reduce, reuse, recycle” - сокращение, повторное использование, переработка) [116] или 6R (к 3R добавлены “redesign, recover, remanufacture” - перепроектирование, восстановление, повторное изготовление) [117], а экономический рост связан с удлинением цепочки создания стоимости посредством формирования возвратных потоков от конечных пользователей к производителям. При реализации данных принципов наиболее распространенной методологией является «оценка жизненного цикла» продукта [118], а преобладаю- щей стратегией – построение системы «продукт – услуга» [119]. Некоторые исследователи под «зонтик» циркулярной экономики помещают концепцию «шеринговой экономики» (“sharing economy” – экономика совместного потребления), нацеленную на использование цифровых платформ для кратковременной аренды товара вместо долгосрочного владения им, что позволит сократить объем используемых материальных ресурсов [120–122]. В свою очередь, циркулярная экономика размещается под «зонтиком» концепции «устойчивого развития» [105; 107; 118; 123]. При экономическом обосновании устойчивой эффективности замкнутого производства основное внимание уделяется построению бизнес-моделей [123; 124]. Гораздо меньше внимания уделяется задачам формирования циркулярной экономики в городе [125; 126] и регионе [127; 128].
Если для построения линейной цифровой экономики можно воспользоваться результатами исследований по переходу к хозяйственной деятельности с применением систем искусственного интеллекта и других технологий четвертой промышленной революции, то реализация идей циркулярной цифровой экономики нуждается в дополнительном обосновании применения новых технологий для организации возвратных потоков [129–131]. При организации замкнутого производства предпочтение отдается «большим данным» [132], «интернету вещей» [132; 133], аддитивному производству [134], распределенным реестрам [135] и цифровым платформам [136]. Для измерения производительности замкнутой цепи поставок предложена экспертная система (алгоритм искусственного интеллекта) на основе нечетких логических правил [137], а для оценки эффективности циркулярной экономики – индекс минимальной энергии, необходимой для изготовления продукта [138]. Что касается территорий, то имеется модель многоцелевого программирования для построения региональной стратегии [139]. Эти разработки позволят в перспективе перейти к циркулярной цифровой экономике России, но такая цель не зафиксиро- вана в Программе. Впрочем, продолжение развития линейной цифровой экономики также не обозначено в национальной программе. В результате такой неопределенности глобальные конкуренты Российской Федерации могут уйти далеко вперед не только в области сокращения потребления природных ресурсов и развития соответствующих технологий, но и негативного воздействия на отечественную сырьевую экономику за счет снижения мирового спроса. Предпосылки реализации нежелательного для нас сценария заложены в стратегиях экономического развития США, КНР и Европейского союза [108; 140].
Гомогенный или гетерогенный экономический ландшафт
Представление А. Лёша [141] об экономическом ландшафте как пространственном переплетении рыночных зон различных товаров и услуг со временем значительно трансформировалось [142–144]. Появилось множество разновидностей экономического ландшафта. Например, «финансовый ландшафт» [145], «торговый ландшафт» [146], «конкурентный ландшафт» [147], «ландшафт экономического роста» [148], «ландшафт инноваций» [149], «ландшафт использования Интернета» [150] и «ландшафт циркулярной экономики» [112]. Для этих и других ландшафтов характерно пространственное взаимодействие [151] различных экономических агентов [152]. В качестве агентов обычно рассматриваются домохозяйства, компании и государственные организации. Их взаимодействие в пределах определенной территории формирует специфический ландшафт, который обычно идентифицируется как гетерогенный [149; 153]. Однако приближение эпохи искусственного интеллекта меняет представление о природе экономических агентов [29]. Поэтому предлагается различать виды и типы агентов. До недавнего времени хозяйственную деятельность осуществлял один тип экономических агентов – человек или коллектив людей. Этот тип может делиться на различные виды агентов (домохозяйства, компании, брокеры, операторы, регулирующие органы и др.). При этом агенты существуют не только в рыночной, но и в плановой экономике [154]. Предполагается, что все агенты должны осуществлять рациональное экономическое поведение (принятие решений, выбор). На таком допущении построена неолиберальная концепция “homo economicus” [155], которая неоднократно критиковалась с разных позиций [156–158]. В качестве альтернативы существующим нерациональным агентам предлагается machina eco-nomicus [159] - система искусственного интеллекта, самостоятельно принимающая экономические решения. На сегодня существует много институциональных вопросов к новому типу агентов [29], но в будущем они станут доминировать в тех областях, где человек не может принимать правильные решения или делает это слишком медленно. Таким образом, в перспективе экономический ландшафт будут формировать три типа агентов - люди, интеллектуальные машины и гибридные (человекомашинные) системы. Ландшафт, который создается одним типом агентов, целесообразно назвать гомогенным, а несколькими типами - гетерогенным.
Программа не регулирует вопросы взаимодействия экономических агентов разного типа и, соответственно, формирования цифровых экономических ландшафтов. В будущем это может привести к нежелательной трансформации общероссийского экономического пространства как конечного множества ландшафтов. Если в настоящее время при человеческом типе агентов (человек, коллектив людей) становление цифровой экономики России характеризуется центростремительной трансформацией пространства [54], то появление человеко-машинных и интеллектуальных компьютерных агентов может привести к гипертрофированному сжатию наиболее активного экономического пространства до пределов, например, Московской цифровой городской агломерации [104]. Косвенным свидетельством этого является ориентация Программы на создание «национальных компаний-лидеров», которые по примеру существующих госкомпаний будут локализованы в Москве, что объясняется, по мнению автора, удобством администрирования и финансирования реализации Программы. Поскольку в Программе не уделено внимание региональной политике фор- мирования интеллектуальных компьютерных экономических агентов, то они (точнее, их собственники), скорее всего, будут стихийно концентрироваться в столице. Результатом скопления традиционных и новых экономических агентов на ограниченной территории станет увеличение (относительно современной ситуации) финансовых, информационных и других потоков, поступающих в столичный регион. Здесь сформируется самый экономически мощный ландшафт. Что касается остальных регионов, то в них экономический ландшафт будут формировать домохозяйства и местные компании (человеческий тип агентов) при доминирующем влиянии трех типов московских агентов. В результате этого возникнет колониальный тип цифровой экономики, когда агенты в реги- онах станут поставлять данные в метрополию (столицу) и приобретать у нее цифровые товары и услуги. Это противоречит концепции устойчивого развития цифровой экономики России. Однако ограничи- тельные механизмы центростремительных процессов в Программе не предусмотрены. Существующая неопределенность в выбо- ре гомогенных или гетерогенных экономических ландшафтов оказывает влияние на следующий уровень неопределенности, который оказывает влияние на формиро- вание и развитие так называемых «умных» территориальных образований.
«Умные» города, агломерации или регионы
Развитие «интернета вещей», сенсорики, «больших дан ных» и искусственного ин- теллекта в сочетании с представлениями об «умных» домах, заводах, дорогах, парках, беспилотном транспорте и других человеко-машинных и машинных системах управления городским хозяйством позволили сформировать концепцию «умного города» [160–165]. Эта концепция реализуется в ряде городов [166; 167], и их число постоянно растет, о чем свидетельству- ют международные рейтинги, фиксирующие в том числе возникновение отечественных «умных» городов. Так, например, в “IESE Cities in Motion Index 2020”1 представлены три российских города – Москва (87-е место из 174), Санкт-Петербург (124-е) и Новосибирск (159-е), а в “IMD Smart City Index 2019”2 – два города (Москва на 72-м и Санкт-Петербург на 73-м местах). Следует также отметить, что в 2020 г. в рамках одного из национальных проектов появился аналогичный российский рейтинг3. Дальнейшее развитие идей привело к пониманию необходимости распространения «умных» объектов за пределы городов для формирования «умного пространства» [168]. Поэтому на смену «умному городу» пришли концепции «умной агломерации» [169; 170] и «умного региона» [171; 172]. При этом к данным концепциям имеется ряд претензий [173– 175], одна из которых связана с отсутствием доказательств экономической целесообразности и технической возможности повсеместного распространения «умных» объектов. Что касается методологических проблем «умных территорий», то остается много вопросов к их делимитации. К примеру, рубежи «умных регионов» Италии совпадают с административными границами групп областей по степени «умности» [176], «умный регион» Хельсинки получился в результате объединения 26 муниципалитетов на юге Финляндии [177], а «умный» рост китайской агломерации Чанша-Чжучжоу-Сяньтань [178] привязан к границам землепользования. В итоге границы распространения «умных» объектов не идентифицируются и не обосновываются, а используются существующие рубежи административно-территориального деления. Такая ситуация не способствует пониманию особенностей новых территориальных образований и нуждается в разработке специализированных алгоритмов делимитации «умных» городов [168], агломераций и регионов [104]. Несмотря на эти и другие проблемы, три концепции развиваются и представляют альтернативные взгляды на территориальную организацию цифровой экономики.
В Программе не расставлены приоритеты между концепциями «умного города», «умной агломерации» и «умного региона», но дважды упоминается «умный город» (в первом и шестом разделах). Значит, можно предположить, что развитие цифровой экономики России будет опираться на «умные» города. Однако в Программе отсутствуют даже контуры государственной политики развития «умных» городов, что порождает множество вопросов. В каких российских регионах предполагается развитие «умных» городов? С какого уровня численности населения (10, 100 или 1000 тыс. человек) будут они формироваться? Какой должна быть минимальная плотность насыщения территории города «умными» объектами? Будут ли это объекты одного или нескольких типов (только «умные» дома или еще «умные» автомобили, заводы, зоны отдыха и т. д.)? Отсутствие ответов на эти и другие вопросы дополняется стратегической неопределенностью в отношении выбора главного вектора развития цифровой экономики. На наш взгляд, концепция «умного города» представляет частный случай «умной агломерации» (территориальное скопление взаимодействующих городов), которая, в свою очередь, входит в концепцию «умного региона» (взаимодействующие агломерации, отдельные города и другие поселения, межселенная территория). Не признавая «умный регион» в качестве наиболее перспективного вектора, Программа становится катализатором нарастающих противоречий в развитии отраслей и субъектов Российской Федерации. К примеру, непонятно, каким образом создание автономных транспортных систем с искусственным интеллектом отразится на связности регионов и будет ли у столично- го региона приоритет в строительстве «умных» дорог? В будущей цифровой экономике основное взаимодействие между территориально распределенными объектами будет осуществляться через региональные информационные потоки [179]. Эти потоки пойдут по линиям электросвязи вдоль транспортных магистралей (как сейчас) или с целью сокращения времени задержки сиг- нала – по прямым линиям между основными городами [55]? Выбор второго варианта более приемлем для внедрения прорывных информационно-коммуникационных технологий. Однако регионы, где должны про- кладываться новые линии связи не проинформированы о таких перспективах и, соответственно, не учитывают данные аспекты в региональных стратегиях социальноэкономического развития. Исходя из выше- сказанного, по мнению автора, перечисленные неопределенности, с одной стороны, делают развитие цифровой экономики Рос- сии совершенно непредсказуемым и зави- сящим от потенциала отраслевых и региональных групп лоббирования, а с другой – есть опасность, что ее развитие будет сконцентрировано в «умном» городе Москве (возможно, еще в Санкт-Петербурге и Новосибирске).
Заключение
Анализ программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с позиции современных экономических концепций по- казал, что имеется как минимум пять уровней стратегической неопределенности. Программа, Паспорт и другие сопутствующие документы не дают однозначного ответа о государственном выборе того или иного направления развития на каждом иерархическом уровне. В итоге суммарная неопределенность характеризуется наличием 48 теоретически возможных путей (сценариев) развития цифровой экономики. По некоторым косвенным признакам можно предположить, что «по умолчанию» Россия будет придерживаться пути развития платформенной агломерационной линейной цифровой экономики в гомогенных ландшафтах и «умных» городах. В свою очередь, с позиции современных ис- следований и опыта становления цифровой экономики в других странах предпочтение, напротив, отдается платформенной рассредоточенной циркулярной цифровой экономике в гетерогенных ландшафтах и «умных» регионах. Между предполагаемым и предпочтительным сценариями находятся 22 возможных направления раз-вития1. По какому из них в действительности пойдет Россия – покажет будущее. Однако существование значительной стратегической неопределенности в настоящее время, как указано в исследовании [180], в худшем случае приводит к неспособности защититься от будущих угроз, а в лучшем – к игнорированию потенциальных возможностей. Оба варианта не способствуют повсеместному эффективному развитию цифровой экономики [181].
Представленный обзор современных концепций не исчерпывает все разнообразие взглядов на возможные варианты экономического развития. Конечно, не все концепции можно связать с развитием цифровой экономики на основе искусственного интеллекта, а некоторые из них не имеют альтернативных точек зрения, что исключает появление стратегической неопределенности. Дальнейший поиск концептуальных дихотомий (трихотомий и т. д.), на наш взгляд, целесообразно проводить в областях, связанных с развитием четвертой промышленной революции и соответствующими прорывными информационно-коммуникационными технологиями. В качестве перспективного направления поиска можно отметить трихотомию «4G-, 5G- или 6G-обусловленная цифровая экономика». В настоящее время экономические агенты используют сети электросвязи четвертого поколения (4G). Однако в ближайшей перспективе в России планируется развернуть сети 5G (первоначально в одном городе с численностью населения более 1 млн человек). При этом нет определенности в перспективах развития цифровой экономики, которая будет опираться на сети 4G или 5G (при условии их повсе- местного распространения). Пятое поколение сетей имеет ряд характеристик, связанных со скоростью, задержкой сигнала и зонами покрытия [182; 183], которые трансформируют существующую (при 4G) территориальную структуру экономики посредством сосредоточения экономических агентов в цифровых агломерациях [104]. Ведущиеся разработки сетей 6G, функционирующих при поддержке искусственного интеллекта [184], могут в случае их реализации еще больше трансформировать экономическое пространство России. Эти и другие тренды надо учитывать при формировании национальной программы развития цифровой экономики России. Вместе с тем существующие официальные документы в концептуальном плане значительно отстают от фронтира экономических воззрений, что обусловливает необходимость разработки нового документа с более далеким горизонтом стратегического планирования. Представляется, что перспективным названием нового документа является «Национальная стратегия пространственного развития цифровой экономики на основе искусственного интеллекта в период до 2050 года».
Исследование выполнено за счет средств государственного задания (№ регистрации темы АААА-А17-117041910166-3).
Список литературы Цифровая экономика Российской Федерации: концептуальный анализ национальной программы
- Положихина М.А. Национальные модели цифровой экономики // Экономические и социальные проблемы России. 2018. № 1. С. 111-154.
- Якутин Ю.В. Российская экономика: стратегия цифровой трансформации (к конструктивной критике правительственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации") // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. № 4. С. 27-52.
- Макогонова Н.В. Риски реализации государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" // Управленческие науки в современном мире. 2018. Т. 1, № 1. С. 569-576.
- Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Формирование цифровой экономики в России: проблемы, риски, перспективы // Вестник Института экономики РАН. 2018. № 5. С. 9-21.
- Духовных Д.А., Агафонова М.С. Проблемы и риски формирования и развития цифровой экономики в России // European Journal of Natural History. 2020. № 1. С. 110-114.