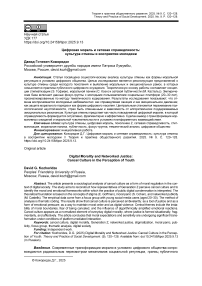Цифровая мораль и сетевая справедливость: культура отмены в восприятии молодежи
Автор: Кожоридзе Д.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена социологическому анализу культуры отмены как формы моральной регуляции в условиях цифрового общества. Целью исследования является реконструкция представлений о культуре отмены среди молодого поколения и выявление моральных и эмоциональных рамок, в которых осмысляется практика публичного цифрового осуждения. Теоретическую основу работы составляют концепции стигматизации (Э. Гофман), моральной паники (С. Коэн) и сетевой публичности (М. Кастельс). Эмпирическая база включает данные фокус-группы с молодыми пользователями социальных платформ (20–30 лет), проанализированные по методу тематического кодирования. Результаты исследования показывают, что отмена воспринимается молодежью амбивалентно: как справедливая санкция и как эмоциональное давление; как защита морального порядка и как форма цифрового насилия. Центральным становится переживание психологической неустойчивости, страх быть отмененным и зависимость от алгоритмически поддерживаемых эмоциональных резонансов. Культура отмены предстает как часть повседневной цифровой морали, в которой справедливость формируется ситуативно, фрагментарно и аффективно. Сделан вывод о трансформации нормативных ожиданий и моральной чувствительности в условиях платформенного взаимодействия.
Культура отмены, цифровая мораль, поколение Z, сетевая справедливость, стигматизация, моральная паника, публичность, фокус-группа, тематический анализ, цифровое общество
Короткий адрес: https://sciup.org/149149180
IDR: 149149180 | УДК: 177 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.13
Текст научной статьи Цифровая мораль и сетевая справедливость: культура отмены в восприятии молодежи
допустимого и форм коллективной санкции. Одним из наиболее симптоматичных явлений, отражающих эти процессы, выступает культура отмены - децентрализованная, неинституционализи-рованная форма публичного морального осуждения, реализуемая преимущественно в цифровой среде. Возникая в ответ на действия или высказывания, интерпретируемые как нарушающие социальные или этические нормы, культура отмены представляет собой моральную практику, находящуюся на пересечении стигматизации, травли, акта исключения и символического изгнания.
Конкретные случаи, получившие широкую огласку, демонстрируют масштаб и противоречивость культуры отмены. В зарубежной практике показателен пример Дж.К. Роулинг, подвергшейся масштабной онлайн-критике за высказывания о трансгендерности, а также актера Дж. Деппа, который на протяжении нескольких лет оставался объектом борьбы между фанатскими и активистскими сообществами. Эти кейсы иллюстрируют, как отмена может сочетать в себе правозащитную мобилизацию и социальную поляризацию.
В российском контексте ярким примером стала публичная критика Регины Тодоренко за высказывание о домашнем насилии, приведшая к потере телеведущей контрактов и ее временной изоляции из публичной сферы. Аналогичные эпизоды касались также музыкантов, блогеров, стендап-комиков, чьи слова или действия стали предметом сетевого осуждения. При этом последствия отмены носили не только имиджевый, но и экономический характер - от разрыва рекламных контрактов до блокировки страниц и удаленных альбомов.
Эти и другие случаи указывают на то, что культура отмены функционирует как инструмент моральной санкции в цифровом пространстве, где оценка высказывания или поступка осуществляется коллективно, стихийно и преимущественно в онлайн-среде.
Несмотря на широкое обсуждение культуры отмены в общественном и экспертном поле, ее академическое осмысление в российском контексте остается фрагментарным и преимущественно публицистическим (Кожоридзе, Кожоридзе, 2024). Особенно слабо исследован вопрос о том, как культура отмены воспринимается и интерпретируется самой аудиторией, активно вовлеченной в цифровое взаимодействие, прежде всего - представителями поколения Z. Молодежь, выросшая в условиях сетевой социализации, не просто наблюдает практики отмены, но и формирует их как часть своей этической и идентичностной реальности.
Объектом исследования выступает культура отмены как феномен моральной регуляции в цифровом обществе.
Предметом исследования являются представления о культуре отмены среди молодежи в возрасте 20–30 лет, их моральные оценки, эмоциональные реакции и способы легитимации или критики данной практики.
Настоящее исследование направлено на реконструкцию повседневных смыслов, придаваемых культуре отмены молодежной аудиторией, а также на выявление тех понятийных и нормативных рамок, в которых осмысляются моральные основания цифрового осуждения и санкции. В эмпирической части опора делается на результаты фокус-группового обсуждения с участием респондентов в возрасте от 20 до 30 лет, в ходе которого обсуждались содержание, функции и допустимость практики отмены в социальных сетях.
Анализ полученных данных осуществляется на основе методологии тематического кодирования, с привлечением теоретических рамок Э. Гофмана (теория стигматизации), С. Коэна (концепт моральной паники) и М. Кастельса (сетевая структура публичности). Исследование исходит из предпосылки о том, что культура отмены не может быть сведена к этическому релятивизму или цифровому произволу, но должна рассматриваться как элемент новой, платформенно опосредованной моральной регуляции, формируемой в динамике повседневной сетевой коммуникации.
Результаты проведенного исследования обладают практической значимостью для сфер цифровой модерации, этики платформенного взаимодействия и социальной диагностики. Выявленные представления молодежи о справедливости, стигматизации, страхе отмены и цифровом давлении могут быть учтены при разработке более сбалансированных и контекстно чувствительных подходов к управлению онлайн-коммуникацией, включая механизмы реагирования на цифровые конфликты и санкции. Кроме того, полученные данные позволяют зафиксировать тенденции трансформации моральных норм в сетевом обществе и могут быть использованы в качестве эмпирической базы для мониторинга морального климата и оценки рисков социальной поляризации в цифровой среде.
Культура отмены как объект практического и теоретического изучения . Феномен культуры отмены на сегодняшний день остается предметом активного междисциплинарного осмысления. В англоязычной академической среде он изучается на пересечении социологии, медиаисследований, культурной критики, цифровой этики и прав человека. Анализ дискурсивных практик, связанных с отменой, ведется преимущественно в контексте публичного позора, виртуальной стигматизации, аффективной мобилизации и политической поляризации.
Наиболее широкое представление о восприятии культуры отмены дает опрос Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), проведенный в 2022 г. Специалистами было зафиксировано значительное повышение осведомленности американцев о данном феномене: с 44 % -в 2020 г. до 61 % - в 2022 г. Респонденты интерпретировали культуру отмены как форму подотчетности, способ борьбы с безнаказанностью, акт травли или цензуры, в зависимости от политических и идеологических предпочтений. Эти данные подтверждают, что культура отмены воспринимается молодежью как ценностно противоречивый и социально поляризующий феномен, не имеющий единообразной нормативной оценки1.
Дополнительную перспективу рассмотрения проблемы дает опрос, проведенный компанией National FIRE Survey в 2022 г., согласно которому 78 % американцев считают культуру отмены угрозой свободе выражения, а 63 % - угрозой демократическим ценностям. Эти данные указывают на то, что культура отмены в массовом восприятии выходит за рамки моральной или культурной практики и интерпретируется как инструмент политического давления и сдерживания инакомыслия. Особенно выражена тревога среди молодежи и респондентов с консервативными взглядами. Это подчеркивает необходимость учитывать политический и идеологический контекст интерпретации феномена2.
На концептуальном уровне культура отмены осмысляется как динамичная, неустойчивая форма моральной регуляции, встроенная в цифровую публичность. Так, М. Кларк предлагает трактовать ее как форму «аффективной подотчетности» – спонтанной коллективной реакции, в которой эмоции играют структурирующую роль (Clark, 2020). Э. Норрис интерпретирует культуру отмены как проявление токсичной публичности и экономики скандала, указывая на ее политикомедийную инструментализацию (Norris, 2021). Е. Нг подчеркивает, что cancel culture представляет собой неустойчивый термин, используемый с разных политических и идеологических позиций – как в целях социальной справедливости, так и для осуществления контроля (Ng, 2020).
Значительное влияние на обсуждение культуры отмены оказала работа Дж. Ронсона «Итак, Вы подверглись публичному позору» (2015), в которой анализируются кейсы публичного цифрового позора и социальные последствия сетевых кампаний против частных лиц (Ronson, 2015). Несмотря на то, что сам термин «культура отмены» на момент выхода работы еще не был широко распространен, ее автор фактически зафиксировал ключевые черты данного феномена: неформальность, коллективность, невозможность реабилитации и стигматизирующую силу публичного внимания.
Отдельное направление составляет исследование платформенной модерации и алгоритмического участия в моральной санкции. Т. Гиллеспи рассматривает цифровые платформы как «невидимых регуляторов морали», скрытно формирующих рамки дозволенного через решения о модерации контента (Gillespie, 2018). Ш. Зубофф в работе «Эпоха надзорного капитализма» указывает на то, что моральные границы в Сети все чаще определяются не публичным обсуждением, а логикой коммерческого контроля и технической фильтрации (Zuboff, 2019).
Особый акцент на амбивалентной природе отмены сделан в статье «“Отмена культуры” как публичный позор в цифровом пространстве» (Günthner et al., 2024), авторы которой анализируют отмену как форму публичного посрамления в цифровой среде, в которой происходит постоянное переопределение моральных норм. Культура отмены рассматривается не как устойчивая санкция, а как пространство нормативных переговоров и идентичностной борьбы, где границы дозволенного не заданы, а утверждаются через конфликт и видимость. Эта логика во многом перекликается с результатами фокус-группы, показавшими, что молодежь воспринимает отмену одновременно как акт справедливости и как форму цифрового насилия.
В российской академической литературе культура отмены пока не получила комплексной социологической разработки. Преобладают публицистические и нормативные трактовки, в которых акцент делается либо на угрозе свободе слова, либо на необходимости проявления гражданской ответственности. Отдельные статьи затрагивают трансформацию репутации, символическое насилие, политизацию идентичности, однако системных эмпирических исследований восприятия культуры отмены молодежью в российском контексте не представлено.
Особый интерес представляет отечественное эмпирическое исследование, проведенное А.С. Савенковой и М.В. Субботиной (Савенкова, Субботина, 2024), в рамках которого применялась методика незавершенных предложений для выявления повседневных представлений о культуре отмены у молодежи и взрослого населения. Полученные данные позволяют реконструировать спонтанные социальные образы, связанные с понятием отмены, и выявить внутреннюю амбивалентность отношения к данному феномену.
Исследователи разделяют представления респондентов на два смысловых уровня – «ядер-ные» (устойчивые и повторяющиеся) и «периферийные» (контекстуальные и ситуативные). В первом случае культура отмены ассоциируется с осуждением, наказанием, стигматизацией и лишением доступа к публичности. Во втором – с неопределенностью норм, боязнью быть осужденным и общей моральной тревожностью. Эта двойственная структура значений перекликается с результатами фокус-группы, проведенной в рамках настоящего исследования, где также фиксировалась ценностная неопределенность, восприятие отмены как одновременно справедливости и репрессии, а также был выявлен акцент на ее безвозвратный характер.
Таким образом, несмотря на интенсивное развитие международного дискурса, культура отмены остается концептом с неустоявшейся дефиницией и расщепленной легитимностью. Это подчеркивает необходимость локального, эмпирически подкрепленного анализа – в частности, в фокусе представлений молодежи как активных участников цифровой морали и сетевой справедливости.
Теоретические основы анализа культуры отмены как меры общественного воздействия . Одним из ключевых теоретических инструментов, позволяющих анализировать культуру отмены как форму социальной регуляции, является концепция стигмы, разработанная в классической социологии девиации. В первую очередь речь идет о подходе Э. Гофмана, который рассматривал стигму как механизм социальной маркировки, в результате которого индивид, обладающий определенным «обесценивающим» признаком, изолируется из сферы нормального взаимодействия и лишается социального доверия (Гофман, 2000).
В контексте культуры отмены стигматизация приобретает новую цифровую форму, отличающуюся по своему устройству, скорости и логике распространения. Если в классической модели Э. Гофмана процесс стигматизации был связан с устойчивыми представлениями о девиантности, циркулировавшими в рамках конкретных социальных структур, то в цифровом обществе маркер «отмененности» возникает в условиях фрагментированной морали, анонимной публичности и алгоритмической репликации.
При этом культура отмены воспроизводит основные структурные элементы стигматизации, описанные Э. Гофманом:
-
– наличие ярлыка («этот человек токсичный», «его нельзя слушать»);
-
– разрушение социальной идентичности («он/она не просто совершил ошибку, он/она – плохой человек»);
-
– исключение из легитимной публичности (бойкот, отписки, блокировка, потеря профессиональных связей);
-
– невозможность восстановления статуса, особенно при отказе признать вину в требуемой форме.
Особое значение в цифровом контексте приобретает механизм публичного разоблачения, превращающий стигму в визуально и дискурсивно оформленную акцию, сопровождаемую репостами, хештегами, скриншотами и эмоциональными оценками. Тем самым акт стигматизации теряет локализованность и становится массовым, транслируемым и самоусиливающимся процессом.
Более того, цифровая форма стигмы нередко отличается безвозвратностью, поскольку запись «вины» становится частью цифрового следа. Как показали участники фокус-группы, культура отмены воспринимается как символическая «метка», от которой невозможно избавиться: «если отменили – ты уже помеченный». Это означает, что в культуре отмены отсутствует привычный для классических обществ механизм социальной реабилитации, предполагающий прощение, извинение или покаяние.
Таким образом, теория стигматизации позволяет не только описать внешние характеристики культуры отмены, но и осмыслить ее как форму морального изгнания, в которой цифровые технологии выполняют роль посредников, а моральное воздействие переходит из институциональной сферы в сферу спонтанной сетевой мобилизации.
Для понимания динамики цифрового осуждения и эмоциональной мобилизации вокруг моральных конфликтов важно обратиться к концепции моральной паники, разработанной в рамках социологии девиации. Классическое определение предложено С. Коэном, который рассматривал моральную панику как спонтанную и зачастую несоразмерную реакцию общества на предполагаемую угрозу со стороны группы или индивида, воспринимаемых как «враги общественных ценностей» (Коэн, 2021).
Ключевыми признаками моральной паники в интерпретации С. Коэна являются:
-
– создание упрощенного образа «морального нарушителя»;
-
– резкая поляризация суждений;
-
– усиленное внимание со стороны медиа;
-
– требование немедленного наказания;
-
– символическая трансформация частного случая в угрозу социальной стабильности.
В условиях цифрового общества эти признаки не только воспроизводятся, но и усиливаются за счет алгоритмической природы распространения контента, платформенной анонимности и аффективной перегрузки. Моральная паника больше не нуждается в институциональных медиаторах – она становится сетевым процессом, разворачивающимся в социальных медиа в реальном времени, часто без внешнего контроля. Любой пользователь может стать инициатором аффективного всплеска, а любая ситуация – катализатором коллективного морального давления.
Как показали участники фокус-группы, культура отмены часто воспринимается именно как реакция на эмоциональное раздражение, тиражируемое мгновенно и массово. «Один твит – и начинается лавина», – отметил один из респондентов. В таких условиях культура отмены превращается в форму спонтанной моральной мобилизации, где важнее не институциональная вина, а мгновенная эмоциональная реакция, соответствующая ожиданиям сетевого большинства.
Характерно, что в цифровом пространстве отсутствуют институции, способные удерживать границы допустимого осуждения. Это приводит к тому, что логика морали подменяется логикой воздействия, где яркость формулировки, вирусный потенциал и аффективный резонанс становятся важнее этической взвешенности или справедливости. В этом смысле культура отмены воспроизводит механизмы моральной паники, но не как временное отклонение, а как устойчивую норму цифровой этики.
Следовательно, обращение к концепции моральной паники позволяет рассматривать культуру отмены как симптом новой формы эмоциональной публичности, в которой моральное действие определяется не столько нормативными основаниями, сколько динамикой аффектов, сетевого тиражирования и давления аудитории.
Понимание культуры отмены как специфического морального механизма невозможно без обращения к концепции сетевого общества, разработанной М. Кастельсом (Кастельс, 2016). В рамках этого подхода современное общество рассматривается как структура, организованная не по иерархическим, а по сетевым принципам, где ключевыми становятся информационные потоки, алгоритмы распространения и платформа как новая форма власти.
Одним из важнейших следствий перехода к сетевому обществу является изменение самой природы публичности. Если в индустриальную эпоху публичность регулировалась институционально (через средства массовой информации (СМИ), цензуру, государственные нормы), то в цифровую эпоху она становится открытой, мгновенной и неустойчивой. Любое действие может быть зафиксировано, распространено и оценено в реальном времени тысячами пользователей. В этих условиях моральные санкции оказываются встроены не в институции, а в саму структуру цифровой коммуникации.
Для культуры отмены это означает радикальное изменение условий ее воспроизводства: акт морального осуждения становится встроенным в архитектуру платформенной публичности. Отмена перестает быть исключением – она превращается в один из базовых механизмов цифрового регулирования поведения, возникающий на пересечении эмоционального резонанса и алгоритмического усиления.
Как отмечает М. Кастельс, в условиях сетевой логики мораль, информация и власть начинают существовать в режиме потоков, а не норм (Кастельс, 2016). Это означает, что устойчивые ценности заменяются ситуативной репутацией, а оценка поступков – реакцией аудитории в конкретный момент. Отсюда – временность и амбивалентность культуры отмены: ее можно вызвать, но невозможно окончательно спрогнозировать или контролировать. Платформы не столько формируют мораль, сколько обеспечивают ее техническое воплощение – через лайки, отписки, блокировки, тренды и контекстуальную видимость.
Участники фокус-группы интуитивно фиксировали этот переход к цифровой морали, лишенной институционального модератора. Так, один из респондентов отметил: «Это не закон – это эмоция, которая накрывает всех одновременно». Такое высказывание указывает на то, что для молодежи моральная санкция все чаще понимается как распределенная, эмоциональная и непредсказуемая практика, не опирающаяся на четкие нормы или иерархии.
Таким образом, теория сетевого общества позволяет интерпретировать культуру отмены как симптом перехода от институциональной морали к моральной логике платформ. В этих условиях цифровая справедливость становится функцией видимости, скорости реакции и сетевого давления, а не устойчивого морального консенсуса.
Обзор теоретических подходов позволяет интерпретировать культуру отмены как сложный социальный механизм, сочетающий в себе черты стигматизации, моральной паники и платфор-менно опосредованной регуляции. Однако специфика данного феномена заключается в том, что его нормативные границы, моральные основания и способы переживания не заданы заранее – они формируются и изменяются в процессе повседневного цифрового взаимодействия. Именно поэтому важно обратиться к опыту тех, кто непосредственно вовлечен в подобные практики – к представителям поколения Z, активно участвующим в онлайн-коммуникации и моральной оценке происходящего в сетевой публичности.
Результаты эмпирического исследования . В рамках настоящей работы была проведена фокус-группа, в ходе которой молодые респонденты обсуждали личное восприятие культуры отмены, ее допустимость, последствия, эмоциональное воздействие и моральные основания. Полученные данные позволяют не только эмпирически подтвердить (или опровергнуть) выводы, сделанные на теоретическом уровне, но и выявить новые смыслы, важные для понимания трансформации морали в цифровую эпоху.
С целью анализа представлений о культуре отмены и цифровой морали среди представителей поколения молодежи была организована фокус-группа, методологически опирающаяся на качественную традицию интерпретативной социологии. Данный метод был выбран как наилучший способ выявления не только индивидуальных мнений, но и процессов совместной интерпретации, морального согласования и конфликта в групповом взаимодействии. Фокус-группа позволяет исследовать не столько сформулированные заранее позиции, сколько динамику формулирования суждений, возникающих в процессе коллективной рефлексии и дискуссии.
Исследование было проведено в очном формате. В дискуссии приняли участие восемь респондентов в возрасте от 20 до 30 лет, являющихся студентами московских вузов гуманитарного и социального профиля. Гендерный состав группы был сбалансирован. Все участники активно используют социальные сети и мессенджеры (Telegram, Instagram (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), TikTok, X/бывший Twitter (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), YouTube), имеют опыт взаимодействия с контентом, связанным с практиками отмены – в виде как наблюдения, так и личного участия или обозначения внутренней позиции. Продолжительность сессии составила примерно полтора часа.
Мы выполняли в исследовании роль модератора. Обсуждение строилось по полуструктури-рованному сценарию: участникам предлагались открытые вопросы и проблемные ситуации, побуждающие к размышлению о допустимости отмены, критериях морального порицания, публичности, страхе и справедливости. Атмосфера доверия и равенства способствовала развернутым высказываниям, зачастую эмоционально насыщенным и обогащенным культурными референциями.
-
А нализ эмпирического материала осуществлялся по методу тематического кодирования1. Данный подход позволил выявить повторяющиеся смысловые узлы в дискурсивной ткани интервью, сгруппировать их по категориям и интерпретировать как проявление устойчивых моральных структур. Тематический анализ включал шесть этапов, среди которых:
-
1. Знакомство с данными.
-
2. Генерация первичных кодов.
-
3. Выделение тем.
-
4. Пересмотр тем.
-
5. Определение и наименование тем.
-
6. Оформление результатов анализа.
Кодирование проводилось вручную, с опорой на дословную расшифровку аудиозаписи. В результате были выделены ключевые категории: стигма и исключение, цифровая справедливость, эмоциональная мобилизация, страх отмены, моральная неоднозначность, влияние платформ и др. Каждая из этих категорий была построена на множественных повторяющихся высказываниях участников и подвергнута последующему концептуальному осмыслению.
Таким образом, фокус-группа позволила зафиксировать не только отношение молодежи к культуре отмены, но и моральные режимы, через которые они осмысляют цифровое взаимодействие, коллективную санкцию и справедливость в онлайн-пространстве.
Результаты фокус-группового исследования показали, что культура отмены воспринимается молодежью одновременно как нормализованный элемент цифровой жизни и как источник моральной неуверенности. Большинство участников не стремятся дать строгое определение феномену, но описывают его через метафоры вытеснения, изоляции, удаления. Типичным образом становится формула «тебя как будто вычеркивают из Интернета», или «после отмены ты уже не человек, а персонаж». Эти интуитивные описания указывают на восприятие отмены как акта стигматизации, близкого к модели, предложенной Э. Гофманом. Цифровая «метка» отмены не просто приписывает индивиду девиантный статус, но и вытесняет все остальные его идентичности. Один из участников подчеркивает: «После того как ты попал в такое – тебя помнят только по этому. Ты можешь быть кем угодно, но все, что будет первым в поиске – это твоя отмена».
Цифровая специфика стигматизации заключается, по словам респондентов, в неустрани-мости и безвозвратности. Архивируемость цифровой репутации, алгоритмическая видимость, скриншоты, сохраненные репосты делают невозможным «забывание». Участники описывают это как «цифровую ловушку», в которой отмена сохраняет свою силу даже спустя годы. Это напрямую перекликается с концепцией «моральной паники» С. Коэна, в которой стигма оформляется как реакция на воспринимаемую угрозу, усиливающуюся за счет публичной видимости и резонанса. В цифровом же контексте, как отмечают респонденты, такой резонанс самопроизводим: «Один пост запускает лавину. Все подключаются, никто не проверяет, просто эмоции».
Именно аффективная составляющая осуждения оказывается центральной в описаниях. Молодежь осмысливает отмену не столько как акт справедливости, сколько как эмоциональное событие. «Это не мораль, это чувство. Оно тебя накрывает», – подчеркивает одна участница. Другой добавляет: «Обычно люди подключаются не из-за смысла, а из-за настроения». Такое переживание морали как состояния, а не как нормы, соотносится с тем, что М. Кастельс называет сетевым потоком эмоций, в котором решение принимается не индивидуально, а как эффект контекстуальной вовлеченности.
Несмотря на признание отмены как «перегретой» и подчас жестокой, участники подчеркивают ее компенсаторную функцию. Она воспринимается как «механизм последней инстанции», особенно в тех случаях, когда нарушитель остается без санкции со стороны формальных институтов: «Если государство не реагирует, если работодатели молчат – люди сами устраивают справедливость». Подобные высказывания указывают на интерпретацию отмены как альтернативной формы социальной подотчетности, действующей там, где отсутствует институциональная защита. При этом респонденты подчеркивают, что чувство справедливости редко сопровождается уверенностью в правомерности наказания: «Ты вроде бы за справедливость, но потом думаешь – а вдруг он не виноват?».
Не менее важным становится мотив страха – быть отмененным или промолчать. Многие участники признают, что ощущают давление необходимости обозначить свою позицию: «Если ты молчишь – это читается как согласие». Одновременно присутствует страх «сказать что-то не то», случайно нарушить неясную границу дозволенного: «Сегодня это шутка, а завтра это уже преступление. Никто заранее не знает, за что будет отмена». В этих признаниях проступает двойственное положение пользователя в цифровом пространстве: он одновременно объект потенциальной санкции и субъект морального участия.
Цифровая мораль, по описаниям участников, не связана с постоянными принципами. Ее логика ситуативна и контекстуальна: «Нет никакой инструкции. Все решает реакция – будет ли резонанс, подхватят ли». Алгоритмическое усиление играет здесь ключевую роль. Участники признают, что платформа сама формирует повестку: «Лента подкидывает тебе только одно и то же – ты хочешь не реагировать, но уже втянут». Это указывает на то, что моральное участие в отмене зачастую оказывается неосознанным и технически опосредованным, что сближает культуру отмены с понятием «распределенной морали», существующей в логике сетевого общества.
Заключение . Обобщая высказанные позиции, можно заключить, что представители поколения молодежи воспринимают культуру отмены как эмоционально противоречивую, но социально ожидаемую. Отмена становится частью нормального порядка вещей – формой регуляции, в которой сочетаются моральное давление, страх, ситуативная справедливость и алгоритмически поддерживаемая коллективная аффектация. Присутствует общее понимание, что отмена неотделима от самой природы цифровой публичности: «Просто теперь все видно. И все сохраняется».
Таким образом, культура отмены в интерпретации молодежи оказывается не отклонением, а формой новой моральной реальности, в которой исчезает четкое различие между справедливостью, травлей и вниманием. Это подтверждает нашу исходную гипотезу о том, что в условиях сетевого общества нормативная регуляция приобретает форму аффективного давления, а моральная оценка становится распределенной, фрагментарной и технологически воспроизводимой.
Проведенное исследование показало, что культура отмены представляет собой не просто актуальный социальный феномен, а один из ключевых механизмов моральной регуляции в условиях цифрового сетевого общества. Теоретическая рамка, основанная на понятиях стигматизации (Э. Гофман), моральной паники (С. Коэн) и сетевой публичности (М. Кастельс), позволила рассмотреть отмену не как исключение из моральной нормы, а как специфическую форму ее функционирования в медиаопосредованной среде. Отмена действует не как юридическая санкция или результат институционального консенсуса, а как аффективное, распределенное и алгоритмически поддерживаемое явление.
Фокус-групповое исследование с участием представителей поколения молодежи позволило реконструировать повседневное восприятие отмены и показать, как молодые люди наделяют ее смыслом, переживают ее последствия и формируют собственные ориентиры цифровой морали. Культура отмены воспринимается респондентами амбивалентно: одновременно как акт справедливости и как форма морального насилия; как защита и как угроза; как необходимая реакция и как результат аффективного заражения. Эта двойственность указывает на нестабильность нормативных оснований, свойственную современной цифровой этике.
Одним из наших ключевых наблюдений стало то, что отмена воспринимается молодежью как элемент «нормального» этического порядка, встроенный в архитектуру сетевого взаимодействия. Страх быть отмененным, стремление «не молчать», переживание эмоции как морального импульса, зависимость от платформенной логики – все это свидетельствует о формировании нового морального режима, в котором традиционные категории вины, прощения и авторитетного суда теряют устойчивость. Мораль становится ситуативной, фрагментарной, подвижной – и в этом смысле она отвечает самой природе цифровой публичности.
Таким образом, культура отмены, будучи поверхностно похожей на травлю или бойкот, представляет собой новую форму моральной социализации, в которой переопределяются границы допустимого, воспроизводятся стигмы и кодифицируются социальные ожидания. Для поколения молодежи она уже не является исключением, напротив, она стала одним из основных инструментов участия, идентификации и нормализации. Это позволяет рассматривать отмену как индикатор трансформации справедливости в условиях сетевой эпохи – справедливости без суда, без времени и без центра.
Основываясь на данных одной фокус-группы с ограниченным числом участников, исследование не претендует на статистическую репрезентативность и не охватывает всей полноты социальных различий внутри поколения молодежи (в том числе региональных, гендерных, политических и т. д.). Однако именно качественная стратегия анализа и глубина тематических высказываний позволили зафиксировать ценностные напряжения, моральную амбивалентность и эмоциональные регистры, через которые молодежь осмысляет культуру отмены. Эти результаты открывают возможности для последующих эмпирических шагов – в том числе сравнительных исследований, включения новых возрастных и социальных групп, а также платформенно ориентированных кейс-анализов.