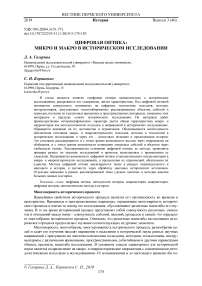Цифровая оптика: микро и макро в историческом исследовании
Автор: Гагарина Д.А., Корниенко С.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая наука в условиях цифрового поворота
Статья в выпуске: 3 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье вводится понятие «цифровая оптика» применительно к историческим исследованиям, раскрывается его содержание, дается характеристика. Под цифровой оптикой понимается совокупность основанных на цифровых технологиях подходов, методов, инструментария, допускающих «масштабирование» рассматриваемых объектов, событий и периодов, изучение их в различных временных и пространственных интервалах, изменение этих интервалов в пределах одного исторического исследования. На материале работ преимущественно историографического характера дается общая характеристика микро- и макроистории как методологических подходов и направлений в исторических исследованиях. Обращается внимание на их достоинства и ограничения. Обосновывается необходимость обеспечения сочетания макро- и микроисторических подходов, методов и технологий в историческом исследовании и через это - целостного познания и представления истории. Это сочетание рассматривается и с точки зрения возможности выхода через микроанализ на обобщения, и с точки зрения возможности понимания локальных событий и объектов через глобальную оптику. Рассматриваются основания цифровой оптики, ее методы, приводятся примеры разных по тематике исследований и проектов, выполненных с применением ее элементов. Раскрываются возможности цифровой оптики и математического инструментария в микро- и макроисторических исследованиях, в преодолении их ограничений, обеспечении их единства. Методы цифровой оптики анализируются также в ракурсе индивидуального и массового в истории, в частности, через обработку массовых исторических источников. Отдельное внимание в рамках рассматриваемой темы уделено понятию и методам анализа больших данных в истории.
Цифровая оптика, методология истории, микроистория, макроистория, цифровая история, математические методы в истории
Короткий адрес: https://sciup.org/147245246
IDR: 147245246 | УДК: 930.2[004.3+51-77] | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-3-175-183
Текст научной статьи Цифровая оптика: микро и макро в историческом исследовании
Многомерность исторического процесса
Важнейшим свойством исторического процесса является его протяженность во времени и пространстве. Временные и пространственные параметры, отражающие многомерность исторического процесса и взятые за основу его исследования, обусловливают различные масштабы его изучения. В то же время исторический процесс представляет собой совокупность различных элементов и отношений между ними – совокупность событий, явлений, процессов и связей, что определяет многообразие исторического процесса. Очевидно, что различные масштабы исследования исторического процесса предполагают изучение соответствующих их уровню элементов.
Многомерность, многообразие, многоуровневость исторического процесса, разнообразие целей и задач его изучения находят выражение в выделении в исторической науке разных научных направлений с присущими им эпистемологическими подходами, методами, технологиями, инструментарием, с различными временными, пространственными, событийными и другими параметрами объекта, предмета, масштаба исследования. В указанном смысле характерным для исторической науки является подразделение на макро- и микроисторические направления с одноименными методологическими подходами и исследованиями. От возникновения и до настоящего времени оба по-
нятия имеют неоднозначные толкования в историографии, различия в определяемых исследователями временных и пространственных границах и иных параметрах.
Использование названий оптических приборов по отношению к макро- и микроанализу в истории и гуманитарных науках вообще становится весьма распространенным. Метафора микроскопа является естественной для микроистории – как разглядывание жизни отдельного человека и истории одного события под микроскопом – в мельчайших деталях и во всем многообразии связей. В другом значении к этой метафоре обращался Эмиль Дюркгейм, воспринимая историю как «микроскоп социологии», с помощью которого становятся видимыми структуры, невидимые при обычном рассмотрении [ Durkheim , 2013, с. 187]. Франко Моретти сравнивает возможности дальнего чтения с телескопом: «У нас будто появился телескоп, позволяющий увидеть совершенно новые галактики» [ Моретти , 2016, с. 323].
Однако методы, основанные на цифровых технологиях и математике, дают возможность не просто «удалять» или «приближать» события и процессы, выявлять крупномасштабные тенденции и закономерности или, наоборот, мелкие детали. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что они становятся или по крайней мере могут стать универсальным «оптическим» инструментом, работающим одновременно и на «увеличение», и на «уменьшение» масштаба, преодолевая ограничения микро- и макроисторического подходов. Она находит подтверждение в вышедшей в 2015 году монографии «Исследуя большие данные. Исторический макроскоп». Авторы ее определяют вводимое ими понятие «исторический макроскоп» как нечто похожее на микроскоп и телескоп одновременно, при этом макроскоп облегчает восприятие большого за счет сжатия и выборочного уменьшения сложности исследуемого «до тех пор, пока не станут ясными узоры и взаимосвязи» [ Graham , 2015, с. 1]. Одним из приемов применения «макроскопа» является визуализации данных. В своей характеристике макроскопа авторы обращают внимание на то, что это метафора, олицетворяющая подход и методы, ориентированные на познание и понимание большого через малое, сложного через простое с целью получения наиболее полного и глубокого представления об исследуемых объектах, явлениях, процессах. При этом они подчеркивают особые возможности, которые создают «большие данные», обработка которых возможна исключительно с помощью цифровых технологий и инструментария. Исходя из этого создатели монографии сосредоточивают внимание, раскрывая программно-технологический и инструментальный аспект исторического макроскопа, на тех технологиях и программных средствах, которые позволяют работать с большими данными и реализовывать в исследовании микро- и макроисторические подходы.
Поскольку дефиниции подходов, методов, технологий, инструментария макро- и микроисто-рических исследований строятся с использованием метафоры оптических инструментов и производных от них («микроскоп», «телескоп», «макроскоп»), на уровне обобщений этих понятий мы сочли целесообразным ввести специальное понятие. Совокупность основанных на цифровых технологиях подходов, методов, инструментария, связанных с масштабированием рассматриваемых объектов, событий и периодов, с изучением их в различных временных и пространственных интервалах, с изменением этого интервала в пределах одного исторического исследования, обозначим понятием «цифровая оптика». Основаниям цифровой оптики в истории, методам и примерам исследований и проектов в этой области и посвящена настоящая работа. Ее цель – охарактеризовать понятие «цифровая оптика», раскрыть его содержание и возможности в обеспечении единства микро- и макроподходов и анализа в исторических исследованиях.
Цель и связанные с ее достижением задачи данной статьи, безусловно, предполагают анализ микро- и макроистории как научных подходов и направлений в исторических исследованиях. Однако этот анализ ограничен общей характеристикой этих направлений и теми их сторонами как явлений историографии (преимущественно на основе историографических работ и отдельных исследований), которые связаны с целевыми установками статьи и вытекающей из них проблематикой.
Микроистория и макроистория: основы, критика, связь
Микроистория как научное направление возникает в 1970-е гг. и связана с антропологическим поворотом, обращением внимания на малые территории, события одного дня, судьбу, повседневную жизнь и ментальность одного человека («маленького человека»). В 1970–1990-е гг. сложились национальные историографические школы микроистории: итальянская (К. Гинзбург, Э. Гренди, Дж. Леви, К. Пони,), немецкая (А. Людтке, X. Медик, М. Миттерауэр), французская (Э. Ле Руа Ладюри, Б. Лепти, Ж. Ревель), англо-американская (Р. Дарнтон, Н.3. Дэвис, Д. Сэйбин), российская (Л.М. Баткин, Ю.Л. Бессмертный). Как сказал в интервью Карло Гинзбург, микроистория распространялась по миру волнами, после перечисленных стран метод получил развитие в «периферийных» странах: Южной Корее, Исландии, Венгрии, Мексике [Гинзбург, 2015]. Микроистория стала инструментом для того, чтобы показать, что «книга про исландскую рыбацкую деревню может быть столь же важной, как и еще одна работа по истории Французской революции» [Там же].
Сейчас микроистория – достаточно популярное направление исторических исследований, она включена в учебники и учебные планы университетских программ по истории. В последние годы опубликованы методологические и историографические работы по микроистории, ее достижениям, критике и сравнению с макроподходом и другими направлениями [ Земцов , 2010; Зенкин , 2006; Исэров , 2016; Копосов , 2000; Могильницкий , 2009; Олейников , 2007; Шарыкин , 2011].
Критика микроисторического подхода и микроисторических исследований связана в первую очередь с проблемой репрезентативности изучаемого микрообъекта и частым отсутствием выхода на «верхний» уровень – процессами в обществе в целом. Отсутствие такого выхода может быть объяснено как тем, что он не предусматривался, так и невозможностью или сложностью обобщений.
В первом случае наиболее критически настроенные историки называют микроисторию в целом «одной большой логической ошибкой» [ Копосов , 2000]1. Впрочем, сам К. Гинзбург, основоположник микроистории, говорит в интервью, что одна из целей микроистории – «прийти к другим обобщениям, более солидным и глубоким», в том числе через анализ взаимодействий микро- и макроуровней [ Гинзбург , 2006].
До недавнего времени преобладающим направлением в исторических исследованиях была макроистория, сложившаяся как научное направление во второй половине XIX в. Макроисториче-ские концепции, к которым относятся теории общественно-экономических формаций (К. Маркс, Ф. Энгельс), цивилизационные (А. Тойнби, О. Шпенглер), эволюционные, модернизации, объясняют глобальный исторический процесс и его этапы, логику развития общественных систем в режиме «долгого времени» [ Могильницкий , 2009; Теория и методология…, 2014]. Однако макроисто-рические теории претерпевают значительные изменения, пройдя через линейное видение исторического процесса и его предопределенность и во многом под влиянием школы «Анналов» придя к необходимости изучения, по выражению Ф. Броделя, и «мелкой пыли событий, индивидуальных жизней, тесно между собой переплетенных», т.е. к сочетанию микро- и макроуровней [ Бродель , 2006, с. 186; Могильницкий , 2009, с. 16].
Значимый вопрос для обсуждения – дихотомия микро- и макроуровней, их относительность и многоуровневая вложенность. Так, Ф. Бродель говорит о возможности и необходимости учета до сотни уровней истории, но в упрощенном виде их по крайней мере три: «На поверхности мы сталкиваемся с историей событий, заключенных в сжатых пределах времени: это – микроистория; на средней глубине мы имеем дело с конъюнктурной историей, которая подчиняется более медленному ритму и до сего дня изучается, прежде всего, на основе материальной жизни и экономических циклов... И за этим ″речитативом″ конъюнктуры мы можем расслышать, наконец, гул структурной истории, истории длительной, которая охватывает целые столетия и располагается на границе подвижного и неподвижного» [ Braudel , 1992, p. 113].
Р. Колинз обращает внимание на то, что даже крупные политические и экономические объекты должны изучаться с использованием еще более широкой перспективы (тематической и хронологической). Он предлагает еще одну метафору: для каждого объекта можно выделить полюс макро (самые крупные паттерны во времени и пространстве) и полюс микро (паттерны социальной организации, которые видны только в меньших срезах времени и пространства) – и приводит порядок цифр (геополитический макроуровень охватывает периоды от десятилетий до столетий и связанные регионы) [ Collins , 1999, p. 125]. А.В. Коротаев и соавторы в книге «История и математика: Макроисторическая динамика общества и государства» обращаются к более длительным макрои-сторическим периодам – столетиям, на которых «проявляются закономерности исторической динамики, очищенные от поверхностной ряби текущих событий» жизни общества и второстепенных реальностей [Введение…, 2007, c. 4].
Как отмечают исследователи, определенный кризис микроистории без обобщений и линейных моделей макроистории, а также многогранность всех развивающихся в историографии направ- лений приводят к появлению или актуализации задач всемирной, глобальной, транснациональной, связанной (connected), переплетенной, перекрестной (entangled) историй, выходящих за пределы национальных историй и государственных границ [Исэров, 2016]. Эти направления приходят на смену традиционной компаративистики и предполагают изучение синхронных срезов и динамики взаимодействия культур, интеллектуальных традиций, обществ, регионов [Ионов, 2011; Репина, 2008; Репина, 2017].
Одновременно происходит стирание дисциплинарных и внутридисциплинарных границ. Филолог Тед Андервуд отмечает необходимость стирания таких границ для более эффективного соединения количественных и качественных данных и подчеркивает, что «мы работаем над методологическим континуумом, который простирается от истории и литературы до лингвистики и социологии». Признавая ценность специализации, он пишет: «Поскольку человеческие дела являются континуумом, мы должны свободно использовать любую комбинацию методов, которая дает нам рычаги воздействия на конкретную проблему» [ Underwood , 2016]. А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин, занимаясь математическими моделями глобального развития, показывают «взаимосвязи и взаимозависимости между … политическими, урбанистическими, демографическими, технологическими и социоструктурными процессами» [ Гринин, Коротаев , 2007, с. 3].
Индивидуальное и массовое, цифровые технологии и большие данные
Количественные и цифровые методы в истории в большей степени связаны с массовыми (а не индивидуальными) явлениями и процессами. Это обусловлено спецификой первых и все еще наиболее распространенных математических методов в истории – статистических. Статистический подход и статистические методы предполагают наличие массового материала. Само развитие теории массовых исторических источников в определенной степени связано с применением количественных методов [ Ковальченко , 1979, 1987; Массовые…, 1979], вместе с тем массовые источники в определении И.Д. Ковальченко характеризуют «такие объекты действительности, которые образуют определенные общественные системы с соответствующими структурами» [Массовые…, 1979, с 6], т.е. очевидна тесная связь массовых источников, количественных и макроисторических методов.
Математические методы и реализующие их компьютерные технологии, которые позволяют выявлять и описывать закономерности глобальных процессов, оказали влияние на развитие макро-исторического подхода в истории. Эта связь отмечалась еще И. Д. Ковальченко [ Ковальченко , 1979, 1987; Массовые…, 1979]. Текущий этап можно считать третьей волной развития цифровой истории.
Первая волна – 1960–1970-е годы – возникновение квантитативной истории и применение количественных методов в демографической и экономической истории (те направления, в которых используются статистические или массовые источники и числовые показатели и которые поддаются квантификации наиболее естественно).
Вторая волна – с начала 1990-х гг. – появление Интернета и массовое распространение микропроцессорной техники, что привело к развитию таких направлений, как историческая информатика, цифровая история, Digital Humanities, соответствующих профессиональных ассоциаций и профильных конференций.
С начала 2010-х гг. наступил новый этап, связанный с удешевлением облачных вычислений и хранилищ, развитием корпусных и сетевых технологий, массовой оцифровкой источников, массовым созданием машиночитаемых наборов данных и расширением доступа к ним. Все это создало возможности для более расширяющегося «макровзгляда» на исторические объекты и процессы.
Бум big data (больших данных), охвативший в последнее десятилетие все вокруг, не обошел и историческую науку. И пока одни эксперты обсуждают, есть ли в истории действительно большие данные, другие разрабатывают концепции и манифесты [ Manning , 2013; Graham , 2015; Guldi , 2014]. Одновременно появляются конкретно-исторические исследования на основе больших данных.
Большие данные традиционно определяются через 3 V (Volume – объем, Velocity – скорость прирастания, Variety – разнообразие) или 5 V (дополнительно добавляются Viability – жизнеспособность и Value – ценность), это не всегда применимо к истории. В истории действительно есть большие по объему и разнообразию данные, но их рост не столь стремителен, как в социологии или маркетинге (разве что мы не имеем дела с историей современности или изучением памяти). Обработка же значительных объемов разнообразных и слабоструктурированных данных не является новым подходом – статистические методы успешно используются в истории с середины прошлого века, поэтому предлагаются концептуально другие подходы к раскрытию понятия «большие данные». Так, в «Историческом макроскопе» данные называются «достаточно большими», если их невозможно «прочитать за разумное количество времени» или если компьютерные технологии позволяют по-новому их осмыслить [Graham, 2015, p. 3]. Появляются и другие термины: smart-данные, средние данные, «чистые» данные [Schöch, 2013], когда важно обозначить не столько объем, сколько data driven (дата-ориентированные) подходы и методы исследования.
Пример математически доказанных взаимосвязей экономики, реформ и политической ситуации – исследование Б.Н. Миронова, в котором в качестве показателя уровня жизни используются антропометрические данные (рост человека). Мироновым собраны индивидуальные данные о 306 тыс. человек различных пола, возраста, социального положения, конфессии, места рождения, образования, профессии, родившихся в 1695–1920 гг., а также суммарные данные о росте более 10 млн новобранцев, призванных в 1874–1913 гг. Полученные данные анализировались на предмет корреляции с еще 40 различными показателями (сельскохозяйственной и демографической статистикой, налогами, ценами и др.) [ Миронов , 2012]. Результаты исследования Б.Н. Миронова вызвали достаточно острую полемику в историческом сообществе. Но, на наш взгляд, она связана с вопросом о правомерности использования определенных групп данных, а не с подходами и методами анализа, технологиями и исследовательским инструментарием, которые интересны в плане рассматриваемых нами проблем.
Еще большие индивидуальные данные собраны в рамках проекта «Integrated Census Microdata»2 – это 180 млн. записей на основе переписей в Великобритании с 1851 по 1911 г., содержащих персональные данные (информацию о семье, инвалидности, месте рождения, месте работы). Данные предоставляются исследователям в двух вариантах: в анонимизированном виде онлайн для аккредитованных институций1 и в полной версии через механизмы безопасного доступа к данным. Такого рода проекты меняют исследовательский ландшафт экономической, социальной и демографической истории. На основе собранных больших данных выполнен ряд других проектов, например, «Население в прошлом – Атлас викторианского и эдвардианского населения»4. Интерактивный атлас позволяет создавать и просматривать карты различных демографических и социальноэкономических показателей: рождаемости, детской смертности, брака, миграционного статуса, состава домохозяйств, возрастной структуры, профессионального статуса, плотности населения и др. Выбранные по заданным фильтрам данные можно экспортировать и анализировать дополнительно с помощью внешних инструментов.
Таким образом, в обоих примерах от тщательно собранных в большом количестве микроданных о конкретных людях (тех самых представителях «маленького человека») делается переход на макроуровень.
Несмотря на все сказанное о связи математических методов и массовых источников, применительно к индивидуальным источникам, типичным для микроисследований, цифровые методы тоже работают, помогая в том числе «увидеть невидимое». При этом оптические инструменты не всегда уже играют роль метафор, а иногда используются в буквальном смысле. В качестве примера можно привести макросъемку и мультиспектральную съемку визуальных (например, картин Брей-геля5) и текстовых источников (например, древних манускриптов [ Gau , 2011] и берестяных гра-мот6), результаты которой позволяют увидеть угасший текст или скрытые слои.
Изучение макро- и микроуровней в истории и других гуманитарных науках объединяет и отказ от канона. В случае микроисторического исследования интерес представляют самые разные объекты (люди, события, места), в том числе нетипичные или, наоборот, не выделяющиеся на первый взгляд ничем, т.е. объекты, выходящие за пределы сложившегося в историографии канона. При макроисторическом подходе тоже есть возможность отказаться от рассмотрения исключительно канона, так как применение технологий и методов больших данных предполагают сплошное изучение объектов, представляющих ту или иную сущность.
Заключение
Многомерность, многообразие и многоуровневость исторического процесса не снимают необходимости в конечном счете целостного познания и представления истории. Связь микро- и макроистории состоит не только в том, что микроанализ помогает выйти на обобщения или подтвердить их, но и в том, что «глобальная оптика помогает понять локальные события и процессы»7.
Хотя в ряде микроисторических исследований не ставится задача обобщения, современная историческая наука приходит к пониманию важности сочетания макроисторического и микроисто-рического анализа: микроистория и макроистория «должны работать вместе, чтобы произвести более интенсивный, точный и этичный синтез данных» [ Guldi , 2014, c. 119].
Рассмотрение проблем необходимости и возможности сочетания в исторических исследованиях макро- и микроподходов подтверждает предположение о том, что «цифровая оптика», понимаемая как совокупность основанных на цифровых технологиях подходов, методов, инструментария, связанных с масштабированием анализируемых объектов, событий и периодов и изучением их в различных временных и пространственных интервалах, позволяет реализовать важный принцип современного исторического исследования – соединения микро- и макроуровней. Кроме того, цифровая оптика выступает и как инструмент, применяемый в связанной и перекрестной истории для обеспечения многомерного связывания проблем, направлений и тем, периодов и пространств.
Список литературы Цифровая оптика: микро и макро в историческом исследовании
- Braudel F. Geschichte und Soziologie // Braudel F. Schriften zur Geschichte. Bd.1: Gesellschaften und Strukturen. Stuttgart, 1992, pp. 99-121.
- Collins R. Macrohistory. Essays in Sociology of the Long Run. S.l., Stanford University Press, 1999. 328 p.
- Durkheim E. The Rules of Sociological Method: and Selected Texts on Sociology and its Method. Second edition. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 229 p.
- Gau M., Miklas H., Lettner M., Sablatnig R. Image Acquisition
- Graham S., Milligan I., Weingart S. Exploring Big Historical Data. The Historian's Macroscope. S.l., Imperial college press, 2015. 308 p.
- Guldi J., Armitage D. The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. URL: http://historymanifesto.cambridge.org (дата обращения: 01.08.2019).
- I-CeM. Integrated Census Microdata // University of Essex URL: https://www1.essex.ac.uk/history/research/icem (дата обращения: 01.08.2019).
- Inside Bruegel http://www.insidebruegel.net (дата обращения: 01.08.2019).
- Integrated Census Microdata. URL: https://icem.data-archive.ac.uk (дата обращения: 01.08.2019).
- Manning P. Big data in history. S.l., Palgrave, 2013. 119 p.
- Populations Past - Atlas of Victorian and Edwardian Population. URL: https://www.populationspast.org (дата обращения: 01.08.2019).
- Schöch C. Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities // Journal of Digital Humanities. 2013. Vol. 2, № 3. URL: http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-smart-clean-messy-data-in-the-humanities (дата обращения: 01.08.2019).
- The SAGE Handbook of Web History / ed. Niels Brügger, Ian Milligan. S.l.: SAGE, 2019. 625 p.
- Underwood T. Distant Reading and Recent Intellectual History // Debates in the Digital Humanities / ed. Matthew K. Gold, Lauren F. Klein. S.l.:University of Minnesota Press, 2016. P. 530-533. URL: 10.17613/M6288J (дата обращения: 01.08.2019).
- DOI: 10.17613/M6288J(
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.1. Структура повседневности. М.: Весь мир, 2006. 592 c.
- Введение. Макроисторическая динамика общества и государства (от редакционного совета) // История и математика: Макроисторическая динамика общества и государства / отв. ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. М.: КомКнига, 2007. 184 с. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/histmat1.pdf (дата обращения: 01.08.2019).
- Гинзбург К. История - не крепость, а открытое пространство для дискуссий. Интервью Н. Деминой // Полит.ру. 10.10.2006. URL: https://polit.ru/article/2006/10/10/ginzburg (дата обращения: 01.08.2019).
- Гинзбург К. Недостаточно разоблачить ложь, важно понять, почему она работает. Интервью И. Венявкину // Сноб. 16.06.2015. URL: https://snob.ru/selected/entry/93932 (дата обращения: 01.08.2019).
- Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Политическое развитие Мир-Системы: формальный и количественный анализ // История и математика: Макроисторическая динамика общества и государства / отв. ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. М.: КомКнига, 2007. С. 49-101. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/histmat1.pdf (дата обращения: 01.08.2019).
- Земцов В.Н. Микроистория: итоги 15-летнего «пребывания» в России //Уральский исторический вестник. 2010. № 4(29). С. 4-7. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_15270120_38264748.pdf (дата обращения: 01.08.2019).
- Зенкин С.Н. Микроистория и филология // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2006. С. 365-377.
- Ионов И.Н. Глобальная история и изучение прошлого России // Общественные науки и современность. 2011. № 5. С. 139-153.
- Исэров А.А. От критики «метанарративов» к новым обобщениям: современные подходы к изучению всемирной истории // Известия Урал. федерал. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2016. Т. 18, № 4 (157). С. 200-219.
- Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 440 c.
- Ковальченко И.Д. Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. М.: Наука, 1979. 415 с.
- Конрад С. Что такое глобальная история. М.: Нов. лит. обозрение, 2018. 312 c.
- Копосов Н.Е. О невозможности микроистории // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2000. С. 33-51.
- Массовые источники по социально-экономической истории советского общества / под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 374 с.
- Медик Х. Микроистория // THESIS. 1994. № 4. С. 193-194.
- Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в Российской империи: XVIII - начало ХХ века. М.: Весь мир, 2012. 848 c.
- Могильницкий Б.Г. Макро- и микроподходы в историческом исследовании (историографический ракурс) // Вестник Томского государственного университета. История. 2009. № 2 (6). С. 14-21.
- Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 352 c.
- Олейников А.А. Микроистория и генеалогия исторического опыта? // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2007. Вып. 8. С. 379-393.
- Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М.: Изд. дом ВШЭ, 2008. 32 с.
- Репина Л.П. Память о событиях в контекстах национальной, перекрестной и глобальной истории (к постановке вопроса) // Запад - Восток. 2017. № 10. С. 13-19.
- Теория и методология исторической науки: Терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. 576 с.
- Шарыкин Б.В. Микро и макро // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 196-201.