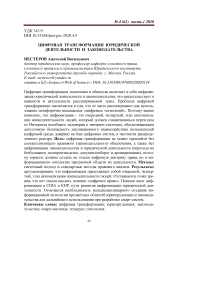Цифровая трансформация юридической деятельности и законодательства
Автор: Нестеров Анатолий Васильевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Проблемы развития государства и права в условиях цифровизации
Статья в выпуске: 4-1 (62), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цифровая трансформация экономики и общества включает в себя цифровизацию юридической деятельности и законодательства, что свидетельствует о важности и актуальности рассматриваемой темы. Проблема цифровой трансформации заключается в том, что ее часто рассматривают как использование метафорично называемых «цифровых технологий». Поэтому важно понимать, что цифровизация - это очередной, четвертый, этап автоматизации жизнедеятельности людей, который должен ознаменоваться переходом от Интернета всеобщего недоверия к интернет-системам, обеспечивающим допустимую безопасность дистанционного взаимодействия пользователей (цифровой среды доверия) на базе цифровых систем, в частности распределенного реестра. Цель: цифровая трансформация не может произойти без соответствующего правового (законодательного) обеспечения, а также без цифровизации законодательства и юридической деятельности (перехода на безбумажное делопроизводство, документооборот и архивирование), поэтому юристы должны создать не только цифровую доктрину права, но и информационную онтологию предметной области их деятельности. Методы: системный подход и стандартные методы правового анализа. Результаты: аргументировано, что цифровизация представляет собой очередной, четвертый, этап автоматизации жизнедеятельности людей. Отстаивается точка зрения, что нет смыла вводить понятие «цифровое право». Показан опыт цифровизации в США и КНР, пути развития цифровизации юридической деятельности. Отмечается необходимость междисциплинарного создания информационной онтологии предметных областей юриспруденции и законодательства для дальнейшего использования при разработке смарт-систем.
Цифровая трансформация, юриспруденция, законодательство, смарт-системы, тезаурус, онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/142234072
IDR: 142234072 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Цифровая трансформация юридической деятельности и законодательства
В работе Е.Л. Писаревского приведен подробный анализ истории развития и применения информационных технологий в юридической деятельности, а также ее цифровизации в России и за рубежом. Автор справедливо отмечает, что, уровень напряженности и интенсивности действующей правовой среды еще крайне низок, а научных исследований недостаточно [1].
На недавно состоявшейся Международной научно-практической online-конференции «Правовая информатизация и трансформация права в условиях цифровой реальности» были обсуждены актуальные проблемы цифровизации. На конференции выступили А.В. Фридштанд – заместитель директора Департамента управления делами Министерства юстиции РФ, который рассказал о результатах работы и планах Минюста РФ в области цифровизации, и А.Е. Карманов – заместитель директора Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ, который остановился на вопросах совершенствования правового регулирования в сфере ведения федеральных регистров и государственных реестров. Докладчик А.В. Морозов обосновал необходимость создания свода законов Российской Федерации в электронном виде на базе системы правовой информации Минюста России. В итоговом документе конференции было отмечено, что «роль Минюста России как федерального органа исполнительной власти, ответственного за состояние правового пространства в Российской Федерации, требует переосмысления, должна быть пересмотрена и стать ключевой в правовом обеспечении и реализации всех без исключения национальных программ и проектов» [2].
Несомненно, результаты по созданию электронного правительства, особенно с внедрением суперсервисов, являются большим шагом в автоматизации взаимодействия ведомств и граждан. Здесь суперсервисы – это комплексные госуслуги, оказываемые в проактивном режиме в связи с распространенными жизненными ситуациями. Особенностью таких сервисов является исключение чиновника из процесса принятия решения, где проактивность, в отличие от реактивности, подразумевает создание правовых условий, позволяющих начать предоставление услуги до фактического обращения заявителя за счет выявления потенциального юридического факта и сообщения гражданину о наступлении таких условий. 29 марта 2019 г. был утвержден перечень из 25 суперсервисов. По оценкам Минкомсвязи России, они охватывают до 90 % всех взаимодействий граждан и бизнеса с государством в различных сферах.
Однако в публикации А. Тухватуллина отмечено, что сейчас в федеральном законодательстве есть много норм, которые препятствуют цифровой трансформации [3]. Проектный офис программы «Цифровая экономика» отмечает, что низкие темпы цифровизации объясняются тем, что на текущем этапе принимаются новые нормативные правовые акты, необходимые для реализации национального проекта, которые требуют большого количества бумажных и бюрократических согласований.
Цифровизация не может осуществляться без законодательного регулирования, а оно само уже не может обходиться без цифровизации, в том числе без цифрового законодательства. Любая автоматизация подразумевает не только формализацию, унификацию, стандартизацию, но и устранение бюрократических барьеров.
Хотя некоторые стратегические нормативные правовые акты, регулирующие информатизацию, электронные услуги и цифровую среду 1 , были приняты давно, разработка и внедрение подзаконных актов осуществляется медленно. Также недостаточно развивается легальная терминология в этой области. Она по-прежнему остается технократически метафоричной.
Важным для цифровизации стало определение, установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 2582, которое можно рассмат- ривать как уточнение метафоры «цифровые технологии», в частности: «цифровые инновации – новые или существенно улучшенные продукт (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новый метод продаж или организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по направлениям, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, с применением технологий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, Центральным банком Российской Федерации».
Здесь необходимо уточнить понятие продукта. В соответствии с про-дуцентным подходом [4] продуценты продуцируют продукты, в частности отчуждаемый результат (продукцию, в том числе информационную), неотчуждаемый процесс и/или права на использование продукта. Товар (товарную продукцию), работу (процесс с результатом), услугу (процесс без результата) можно рассматривать как объекты возмездного оборота, но продукт также может продуцироваться на безвозмездной основе.
Недавно было принято постановление 1 , в котором установлены требования по внедрению ведомственных цифровых трансформаций, что активизирует дальнейшее развитие внедрения смарт-систем в их деятельность.
Напомним, что впервые об использовании кибернетики в праве в нашей стране стали говорить еще в 1962 г. [5], после выхода книги Н. Винера [6]. Однако бумажный документооборот действует до сих пор.
Интерес представляет теоретическая задача о соотношении понятий «цифровое право» и «цифровые права». На наш взгляд, нет прагматического смыла в теоретической конструкции «цифровое право» в виде «модели цифрового права», о которой говорится в статье А.А. Корцхия [7], где также предлагается авторское определение: «под "цифровизацией" правоотношений автор понимает расширяющееся использование современных цифровых технологий в самых различных сферах деятельности человека», которое не имеет конструктивного значения. С таким же успехом можно говорить о «кибернетическом» или «электронном праве».
Более важной практической проблемой является проблема использования продукта в виде так называемого «искусственного интеллекта», который продуцируется в рамках LegalTech с начала 2000-х годов 1 .
Подчеркнем, что компьютеры, а сейчас электронные устройства, являлись и являются элементами автоматических и автоматизированных систем начиная с 50-х годов прошлого века. Тогда же появился прообраз «искусственного интеллекта» – перцептрон в виде математической/ком-пьютерной модели восприятия мозгом внешних воздействий, предложенной Ф. Розенблаттом в 1957 г. и впервые реализованной на электронной машине «Марк-1» [8].
Использование слов «искусственный интеллект» является маркетинговым ходом привлечения инвесторов и чиновников для финансирования разработок, которые до сих пор не имеют научного обоснования.
В работе Д.О. Макгинниса и Р.Дж. Пирса [9] описывается использование искусственного интеллекта в юридической деятельности. Авторы заявляют, что «юристы продолжат использовать искусственный интеллект в качестве помощника и будут не в состоянии предотвратить использование его неюристами для оказания юридических услуг». Тренд на юридическое самообслуживание прорисовывается достаточно хорошо. Однако авторы, утверждая, что «закон – это информационная технология: код, регулирующий общественную жизнь», плохо понимают, что такое информационная технология, и не различают физические и юридические законы.
В своем заключении они уже более сдержанны: «Рынок электронных юридических услуг находится на относительно ранней, но очень важной стадии своего развития… Развиваясь экспоненциально, искусственный интеллект будет играть все более важную роль в пяти областях юридической деятельности: поиске информации по обстоятельствам дела, поиске прецедентов, составлении документов, подготовке материалов дела и прогностической аналитике».
Хотя авторы этой публикации объявили о прорыве, он оказался не прорывом, а провалом в самом главном направлении – прогностической аналитике. В частности, система оказалась предвзятой по отношению к расовой принадлежности преступников [10]. Недавно произошло резкое сокращение сотрудников подразделения, которое занималось такой аналитикой в IBM [11].
Провал этот был предсказуем, так как такая прогностическая аналитика (синтез экстраполяции) базируется на «больших данных», которые фактически являются неструктурированными и неполными данными, а потому могут представлять собой нерепрезентативную выборку, не соответствующую действительности и правовым принципам.
Поэтому важно, на какой научной основе разработчики будут строить смарт-системы, вне зависимости от того, как они будут называться – «искусственным интеллектом» или «нейросетями с глубинным обучением», для решения когнитивных юридических задач. В конечном итоге окончательное юридически значимое решение принимает человек, так как никакие доказательства не являются обязательными, их необходимо проверять и оценивать.
Второй страной, которая продвинулась в использовании таких систем, является Китай. В публикации Н. Непейводы [12] делается вывод, что судебные потребности граждан и компаний становятся все более востребованными, поэтому китайская судебная система решает задачи по обеспечению более доступного и прозрачного судопроизводства, которое позволяет снизить судебные издержки.
Система электронного правосудия в КНР базируется на четырех платформах: по раскрытию информации о судебном процессе, судебных документов, открытых судебных слушаний и по раскрытию информации исполнительного производства. В 2016 г. программа создания «умного (смарт) суда» была официально включена в общенациональную стратегию развития КНР. В октябре 2016 г. Верховный народный суд КНР запустил единую онлайн-медиационную платформу «Медиационная платформа народных судов КНР». Все это говорит о том, что китайцы наращивают мощность автоматизации рутинных умственных операций в судопроизводстве.
В другой публикации [13] отмечено, что с помощью онлайн-систем смарт-судопроизводства рассматриваются гражданские и административные дела, в частности договорные споры по вопросам приобретения через Интернет товаров, услуг и финансовых займов; споры об авторских правах; споры по доменным именам в Интернете; споры об ответственности за продукцию, приобретенную через Интернет; иски по защите общественных интересов, инициированные органами прокуратуры; административные споры по вопросам административного управления через Интернет государственных органов.
В 2018 г. Министерство общественной безопасности Китая запатентовало решение для хранения доказательств и улик, полученных в ходе расследования, с использованием технологии блокчейн. Патент «Способ и система для записи процесса облачной криминалистики на основе блокчейна» описывает систему, позволяющую загружать и хранить данные полицейских расследований в облачном хранилище, с сохранением в блокчейне истории операций с этими данными с целью обеспечения большей прозрачности и защищенности их от взлома [14].
Внедрение таких смарт-систем потребует повсеместного повышения квалификации юристов, радикального пересмотра учебных программ в вузах. Некоторые авторы считают, что искусственный интеллект лишит юристов работы [15], что вызывает сомнение, если рассматривать ретроспективу внедрения результатов научно-технического прогресса. Современное перепроизводство юристов никак не связано с профессией, а только с качеством подготовки бакалавров. Несомненно, подготовленные и толковые юристы будут нужны всегда, но многие выпускники юридического бакалавриата пойдут переучиваться на другие специальности или работать в сферу обслуживания.
Третьей важной проблемой цифровизации юридической деятельности и законодательства является необходимость создания согласованной информационной онтологии [16] всех предметных отраслей права, а также необходимость подумать, как ее гармонизировать с иными системами права. Появление новых сложных задач потребует новых юристов с магистерской подготовкой, обладающих умениями взаимодействовать со смарт-системами.
Выводы. Природа отношений и взаимодействий людей практически остается неизменной, но усложняется с прогрессом в достижениях науки и техники, поэтому их упорядочение с помощью юридических законов приводит не только к появлению правоотношений, но и к бюрократизации. Бюрократизация может выступить ограничением в развитии общества, но творцы пытаются расширить ее рамки. Кибернетика, автоматика, электроника, информатизация и цифровизация сначала предоставляют только новые, а затем тривиальные инструменты, которые используют люди, поэтому нет «цифрового права», а есть право людей использовать эти инструменты в рамках законов. Лозунг «Цифровизируйся или умри!» – это пиар-ход продуцентов «цифры», который подхватили чиновники. Подчеркнем, что «цифра» не самоцель, а только наукоемкий инструмент, который должен применяться в соответствии с правовыми институтами.
При этом только междисциплинарное взаимодействие законодателей, ведомств и ученых может создать такие нормативные правовые акты, которые не смогут тормозить развитие общества, в том числе его информационную безопасность. Здесь под учеными понимаются критически мыслящие аналитики, а не подходящие по «независимости» эксперты
-
[17] . Законы должны соответствовать национальным интересам России, то есть учитывать не только интересы ведомств, но и конституционные права, свободы граждан, а также законные интересы граждан и бизнеса.
Список литературы Цифровая трансформация юридической деятельности и законодательства
- Писаревский Е.Л. Цифровизация юридической деятельности в социальной сфере // Информационное право. 2018. № 4. С. 22-28.
- EDN: YPNFFJ
- Правовая информатизация и трансформация права в условиях цифровой реальности: матер. Междунар. науч.-практ. online-конф., Москва, 25 июня 2020 г. URL: http://www.scli.ru/blog/sostoyalas-konferenciya-pravovaya-informatizaciya-i-transformaciya-prava-v-usloviyakh-cifrovoy.
- Тухватуллин А. Отдельные проблемы управления нацпроектами в муниципальных образованиях // БФТ: сайт. URL: https://bftcom.com/ expert-bft/12578.
- Нестеров А.В. О техническом регулировании в России // Государство и право. 2009. № 8. С. 93-96.
- EDN: KUETBF
- Керимов Д.А. Кибернетика и право // Советское государство и право. 1962. № 11. С. 98-104.