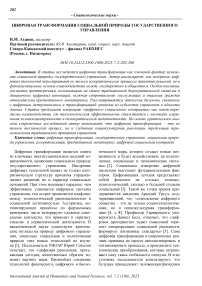Цифровая трансформация социальной природы государственного управления
Автор: Ахциев И. М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется цифровая трансформация как ключевой фактор изменения социальной природы государственного управления. Автор анализирует, как внедрение цифровых технологий перестраивает не только алгоритмические процессы принятия решений, но и фундаментальные основы взаимодействия между государством и обществом. Особое внимание уделяется противоречиям, возникающим на стыке традиционной бюрократической системы и динамичных цифровых инноваций, включая сопротивление госслужащих и опасения граждан относительно предиктивного мониторинга. Рассматриваются этические дилеммы, связанные с цифровым детерминизмом и трансформацией граждан из субъектов управления в объекты данных. Статья предлагает концепцию «цифрового социального контракта» как новой парадигмы взаимодействия, где технологическая эффективность сталкивается с вызовами сохранения человекоцентричности и демократической подотчетности. На основе критического анализа современных исследований автор показывает, что цифровая трансформация - это не только технический процесс, но и глубинная социокультурная революция, требующая переосмысления традиционных принципов управления.
Цифровая трансформация, государственное управление, социальная природа управления, алгоритмизация, предиктивный мониторинг, цифровой социальный контракт
Короткий адрес: https://sciup.org/170210800
IDR: 170210800 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-202-206
Текст научной статьи Цифровая трансформация социальной природы государственного управления
Цифровая трансформация является одним из ключевых институциональных явлений современности, меняющих социальную природу государственного управления. Внедрение цифровых технологий меняет не только алгоритмическую структуру принятия управленческих решений, но и характер социальных оснований. При этом возникает парадокс: чем эффективнее становятся цифровые системы управления, тем острее проявляется конфликт между технологической рациональностью и социальной легитимностью. Алгоритмы, оптимизирующие процессы по формальным критериям, часто игнорируют сложные социальные контексты, что приводит к «кризису смысла» в управленческой деятельности. В академической науке существуют критические взгляды на природу цифрового управления, поскольку социальная и политическая природа этих новых технологий не изучена [1]. Исследователь РНОАР Юрий Соколов отмечает, что «цифровая революция, протекающая сегодня, качественным образом изменит картину мира. Произойдет смешение технологий физического, цифрового и биоло- гического мира, которое создаст новые возможности и будет воздействовать на политические, социальные и экономические системы» [2]. Социальное измерение цифровой эволюции выступает фундаментальным фактором. Цифровизация сегодня представляет собой феномен не столько техникотехнологический, сколько в большей степени социальный [3]. Такой же точки зрения придерживается академик Аркадий Урсул, подчеркивающий, что «становление цифрового общества - это не только социотехнологиче-ская, но и социокультурная трансформация» [4, с. 8]. Профессор Гарвардского университета Даниел Белл, отмечает, что «цифровое пространство задает смысловой горизонт интерпретации социальной реальности, формирует жизненные стандарты» [5]. Сама цифровая трансформация в современных реалиях призвана не просто автоматизировать и оптимизировать процессы, а производить тектонические преобразования, которые затрагивают саму ткань глобального социума. В этих условиях исследователи констатируют, что будущее принадлежит человекоцентрическим системам управления нового типа, основанным на использовании искусственного интеллекта, больших данных и суперсервисов.
Можно констатировать, что современные технологии выступают не просто технологическими инструментами, а новыми факторами социального взаимодействия, которые:
-
- формируют альтернативные системы принятия решений;
-
- создают параллельные цифровые идентичности граждан;
-
- переопределяют понятия публичности и приватности;
-
- меняют ткань социального доверия.
Сама система управления в силу своей институциональной неповоротливости и невосприимчивости к новациям проявляют глобальное отвержение цифровых преобразований. При этом сопротивление изменениям носит не столько осознанный, сколько системный характер: организация защищает не столько конкретные практики, сколько саму возможность существовать в привычном режиме. Цифровые технологии же требуют не просто новых навыков, но пересмотра самих основ управленческой онтологии - перехода от «управления как контроля» к «управлению как координации сложных адаптивных систем». Это объясняет, почему даже формально успешные проекты цифровизации часто остаются островками инноваций в океане бюрократического консерватизма.
Профессор социологии Светлана Алиева пишет, что «государственные и муниципальные служащие демонстрируют неприятие инноваций, имеют смутное представление о содержании инновационных процессов» [6, с. 30]. Профессор Алексей Баранов считает, что «цифровая трансформация государственного управления развивается не на основе ресурсов и технологий, а на основе культурноуправленческих изменений, подразумевающих формирование у представителей государственного управления цифровой ментальности» [7].
Глубинная причина этого феномена кроется в фундаментальном конфликте между логикой бюрократической системы, ориентированной на стабильность и предсказуемость, и динамичной природой цифровых технологий, требующих гибкости и готовности к постоянным изменениям. Государственные служащие зачастую воспринимают цифровую трансформацию как угрозу устоявшимся должностным статусам и привычным схемам работы, что приводит к пассивному сопротивлению или имитационному реформированию, когда новые технологии формально внедряются, но фактически не меняют сути управленческих процессов.
Кроме того, отрицание цифровизации наблюдается и среди граждан - пользователей государственных услуг. Ключевое опасение связано с тем, что сами цифровые платформы не только оказывают услуги, но и в проактивном режиме исследуют своих пользователей (граждан). Это сопротивление коренится не просто в опасениях по поводу конфиденциальности данных, а в фундаментальном противоречии между алгоритмической природой цифровых систем и экзистенциальной потребностью человека в автономном субъектном существовании. Цифровые платформы, претендуя на тотальную объективацию человеческого поведения через сбор и анализ данных, фактически осуществляют символическое насилие, редуцируя многомерность человеческого существования до набора исчисляемых параметров и поведенческих паттернов. В этом контексте цифровое сопротивление граждан можно рассматривать как форму защиты собственной идентичности от технологической реификации, как попытку сохранить пространство непредсказуемости и спонтанности, которое составляет суть человеческой свободы. Особенно показательно, что это сопротивление часто носит нерациональный характер - люди отвергают цифровые сервисы даже тогда, когда их преимущества очевидны, что свидетельствует о том, что в основе лежит не просто непонимание технологий, а глубинный экзистенциальный протест против превращения человеческого бытия в объект алгоритмического управления. Этот феномен ставит под сомнение саму возможность гармоничной интеграции цифровых технологий в социальную ткань без радикального переосмысления их философских оснований, антропологических и социальных последствий. Профессор психологии Анастасия Микляеева подтверждает, что «в результате экспансии цифровых технологий в различные сферы жизни изменяется реальность жизне-осуществления человека» [8].
Возникает феномен предиктивного мониторинга, который выходит далеко за рамки технического сбора данных, трансформируясь в систему тотального цифрового конструирования социальной реальности. Анализ «цифрового следа» перерастает в инструмент мягкого управления поведением, где гражданин становится не просто объектом наблюдения, а элементом сложной алгоритмической системы, предопределяющей его жизненные траектории. Это проявляется в нескольких взаимосвязанных направлениях:
-
- совершенствование рекомендательных алгоритмов онлайн-сервисов;
-
- предвосхищение запросов и желаний пользователей;
-
- формирование индивидуальноличностных портретов (аватаров) пользователей (граждан);
-
- внедрение системы социального рейтинга и цифровых санкций.
Поскольку «в цифровой среде формируются и развиваются субъективные цифровые мотивы, аффективные состояния, когнитивные особенности и психофизиологические детерминанты» [9], возможность предиктивного мониторинга социальной активности как факторов управления (чиновников), так и пользователей (граждан) становится реализуемым. Современные технологии машинного обучения и нейросетевого анализа позволяют не только фиксировать явные поведенческие паттерны, но и выявлять латентные взаимосвязи между действиями индивидов и их социально-политическими предпочтениями. Однако эта возможность порождает серьезные дилеммы.
Во-первых, возникает этический конфликт: с одной стороны, предиктивные системы позволяют оптимизировать госуправление, предупреждая проблемы до их появления. С другой стороны, они превращают граждан в объекты постоянного наблюдения, где каждое действие, лайк или даже пауза перед выбором варианта становятся данными для анализа.
Во-вторых, возникает риск «цифрового детерминизма» - ситуации, когда прогнозы алгоритмов начинают диктовать реальность. Если система предсказывает низкую вовлеченность гражданина в цифровые сервисы, ему могут перестать предлагать важные об- новления или упрощенные процедуры, фактически исключая его из цифровой среды.
В результате массового внедрения цифровых технологий происходит фундаментальное изменение повседневной реальности. Традиционные «аналоговые» способы взаимодействия с государством постепенно исчезают, заменяясь цифровыми интерфейсами. Это приводит к возникновению новой социальной стратификации. Общество делится на тех, кто комфортно чувствует себя в цифровой среде, и тех, кто оказывается исключенным из новых форм социального взаимодействия.
Проблема алгоритмической непрозрачности выходит за рамки технических сложностей и приобретает характер фундаментального вызова демократическому управлению. Когда решения, влияющие на жизнь граждан, принимаются системами, чья логика остается скрытой даже для их разработчиков, возникает парадокс цифрового авторитаризма - формально объективные, но, по сути, не поддающиеся критическому осмыслению управленческие акты. Особую опасность представляет эффект «лавинообразного искажения», когда небольшая погрешность в исходных данных или весовых коэффициентах алгоритма приводит к катастрофическим ошибкам на уровне системных выводов. При этом традиционные механизмы общественного контроля и профессионального аудита оказываются бесполезными перед лицом самообучающихся систем, чьи решения невозможно однозначно интерпретировать даже с помощью самых современных методов.
Цифровая трансформация радикально меняет социальную природу государственного управления, преобразуя традиционные модели взаимодействия между властью и обществом в принципиально новую систему цифрового социального контракта. Технологическая модернизация административных процессов сопровождается глубинными изменениями в социальной ткани управления. Алгоритмизация принятия решений перераспределяет властные полномочия от человеческих институтов к цифровым платформам, а сбор больших данных трансформирует граждан из активных субъектов политического процесса в объекты постоянного мониторинга и прогнозного анализа. Социальные основания государственного управления также приобрета- ют новые характеристики: прозрачность процедур сочетается с непрозрачностью алгоритмической логики, декларируемая доступность услуг сочетается с цифровым исключением уязвимых групп, а эффективность автоматизированных решений – с утратой человеческого контекста при их принятии. В результате формируется новая парадигма социальных отношений, где традиционные принципы демократической подотчетности и публичного диалога сталкиваются с вызовами технократического управления, основанного на дан- ных, но не всегда учитывающего социальные последствия цифровых преобразований.
Ключевой проблемой становится необхо- димость концептуального синтеза технологической эффективности и антропоцентрической модели управления, что предполагает разработку новой теоретической парадигмы, интегрирующей принципы цифровой трансформации с сохранением гуманистических оснований публичного администрирования. Особое значение приобретает структурная модернизация системы подготовки управленческих кадров, включающая формирование цифровых компетенций нового поколения, которые должны сочетать технологическую грамотность с глубоким пониманием социально-политических последствий цифровизации. Параллельно требуется институциональное оформление системы многоуровневого контроля за алгоритмическими решениями, включающее как правовые механизмы обеспечения прозрачности и подотчетности цифровых систем управления, так и разработку комплексных этико-правовых стандартов применения искусственного интеллекта и больших данных в управленческих процессах. Методологической основой устойчивой цифровой трансформации должны стать принципы системности (учитывающей взаимосвязь технологических, организационных и социальных изменений), адаптивности (обеспечивающей эволюционное развитие управленческой системы) и антропоцентричности (сохраняющей приоритет человеческого измерения во всех цифровых преобразованиях). Реализация этих принципов через разработку интегральной модели цифровой трансформации позволит обеспечить гармоничное встраивание новых технологий в систему публичного управления без утраты его социальной сущности и демократической природы, создавая тем самым теоретические и практические основания для формирования новой модели государственного управления, адекватной вызовам цифровой эпохи.