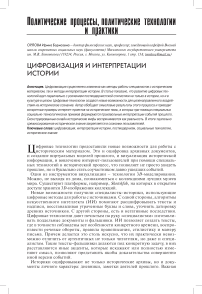Цифровизация и интерпретации истории
Автор: Орлова И.Б.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цифровизация существенно изменила как методы работы специалистов с историческим материалом, так и методы интерпретации истории. В статье показано, что развитие цифровых технологий идет параллельно с усилением постмодернистской стилистики не только в истории, но и в культуре в целом. Цифровые технологии создают новые возможности для целенаправленного воздействия на историческое сознание. Автор обобщает смысловые результаты этого процесса и приводит конкретные примеры интернет-проектов на исторические темы, в которых при помощи специальных социально-технологических приемов формируются произвольные интерпретации событий прошлого. Сконструированные онлайн исторические мифы воспринимаются как реальность. В итоге тщательно срежиссированное историческое знание закрепляется в сознании пользователей.
Цифровизация, интерпретация истории, постмодернизм, социальные технологии, историческое знание
Короткий адрес: https://sciup.org/170211052
IDR: 170211052
Текст научной статьи Цифровизация и интерпретации истории
Ц ифровые технологии предоставили новые возможности для работы с историческим материалом. Это и оцифровка архивных документов, и создание виртуальных моделей прошлого, и визуализация исторической информации, и вовлечение интернет-пользователей при помощи специальных технологий в исторический процесс, что позволяет не просто увидеть прошлое, но и буквально стать соучастником давно ушедших событий.
Один из инструментов визуализации – технологии 3 D -моделирования. Можно, не выходя из дома, познакомиться с коллекциями лучших музеев мира. Существуют платформы, например, Sketchfab , на которых в открытом доступе хранятся 3 D -изображения коллекций.
Новые возможности получили специалисты-историки, использующие цифровые методы для работы с источниками. С одной стороны, алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогают расшифровывать тексты и надписи, восстанавливая утраченные буквы и слова, уточнять датировку древних источников. С другой стороны, есть и негативные последствия. Цифровые технологии дают нечистым на руку «специалистам» изготавливать поддельные документы и фальшивки. ИИ позволяет создать тексты, где в точности соблюдены все особенности конкретного времени, воспроизвести речевые обороты, правила правописания, стилистику и манеру письма. Причем делается это столь искусно, что их практически невозможно отличить от аутентичных не только читателям, но даже и специалистам. Такие тексты-фальшивки делаются под конкретную задачу, в них расставляются иные акценты, которые искажают или полностью изменяют смысл, позволяют представить якобы доказательства совершенно иной версии событий.
Историки оцифровывают не только исторические архивы, но и документы личного характера: дневники, заметки деятелей прошлого. Важная работа делается центром «Прожито»1 Европейского университета Санкт-Петербурга, который создает цифровой архив личных документов из частных собраний. Тематический диапазон очень широк: дневники блокадников, воспоминания деятелей культуры. Интересны рабочие дневники выдающегося советского этнографа С.А. Токарева. Это редкий исторический документ не только характеризующий развитие этнографии в СССР, но и предоставляющий свидетельства человека с научным складом ума о событиях практически всего периода советской эпохи – дневники охватывают период с 1926 по 1985 г.
Проект «Прожито» ведет и научную работу, дневники аккумулируются в специальные книжные издания, такие как, например, «Хочется жить во всю силу: дневники подростков оттепели»2. В сборнике дневники семи молодых людей, родившихся в СССР в 1940-х гг. Это разные люди, разные зафиксированные события и чувства, но все тексты объединяет то, что в них отражены впечатления молодости, совпавшие с периодом оттепели в советской истории.
Цифровые методы исследования истории широко распространены в зарубежных странах. Для примера можно привести работы канадского историка Стефана Левеска, директора лаборатории виртуальной истории университета Оттавы. В лаборатории применяются интересные инновационные методы, такие как измерение эффективности и качества виртуального обучения с помощью отслеживания движения глаз студентов. Среди различных тем исследований лаборатории – анализ исторического мышления и самосознания студентов, качество и полнота восприятия исторического материала при помощи виртуальных методов [Levesque 2007]. С. Левеск проводит лонгитюдные исследования, которые позволили ему прийти к выводу, что, хотя цифровые методы обучения привлекательны для студентов благодаря яркому дизайну, визуальным эффектам, анимированным объектам, эти методы и онлайн-обучение не могут полностью заменить работу в аудитории с преподавателем, в общении и взаимодействии с которым студенты по-прежнему нуждаются. Он уверен, что такой сложный и многогранный процесс, как получение знания, нельзя свести к визуализации событий и героев, игровым методам и веб-анимации.
Цифровая среда и постмодернистская стилистика в историческом знании
Развитие цифровых технологий идет параллельно с усилением постмодернистской стилистики не только в истории, но и в культуре в целом. Суть этого процесса можно охарактеризовать, выделив три главных для нашего контекста содержательных момента:
– появляется вариативность и множественность интерпретаций истории;
– параллельно сосуществуют самые различные версии и трактовки событий прошлого, оценки действий исторических личностей;
– равноправными соучастниками «творения» интерпретаций истории признаются не только профессиональные историки, но и любители – журналисты, политики, писатели, блогеры и интернет-пользователи.
Как же мог сформироваться такой смысловой переворот в научном знании? Чтобы разобраться в этом и проследить процесс трансформации, нужно зайти несколько издалека и вспомнить, с чего все начиналось. А началось все в 60–80-х гг. ХХ в., когда на границе исторического, филологического и философского знания возникло направление «лингвистический поворот», которое задало новый вектор в понимании реальности окружающего нас мира.
Суть «поворота» – в ином смысловом отношении к языку, меняющем восприятие реальности. Целый ряд ученых внесли свой вклад в развитие этого направления. Назовем лишь некоторых: основатель структурной лингвистики Фердинанд де Соссюр, Людвиг Витгенштейн, феноменолог Эдмунд Гуссерль. Фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера трактовала язык как социальную систему и одновременно как социальную игру, поскольку при взаимодействии мы каждый раз уточняем смысл и значение произносимых слов. Еще можно упомянуть Эдварда Сепира, полагавшего, что смысловая структура языка – это символический ключ к пониманию иной культуры. Такое понимание значения языка повлияло не только на лингвистику, но и на социологию, культурную антропологию, философию, историю и другие области социального знания.
Хотя пишется, что к нулевым годам лингвистический поворот себя исчерпал, но он, утратив новизну, не потерял своего смыслового значения. Свидетельством этому может быть недавно вышедшая новая книга «Практическое прошлое» американского историка Хейдена Уайта, считающегося ключевой фигурой «лингвистического поворота». Автор пишет о значении отличного от классической истории так называемого исторического письма как жанра, родственного литературе. В книге он обосновывает несовместимость двух способов постижения прошлого: исторического прошлого, которым занимаются профессиональные историки, и практического прошлого, доступного всем обычным людям. Чем они отличаются? Первое создается историками в целях познания, существует только в их книгах и не содержит указаний на то, как действовать в настоящем или предвидеть будущее. Второе – практическое прошлое – это «хранилище заархивированных воспоминаний, идей, мечтаний и ценностей, куда мы ходим как в своего рода “лавку древностей” в поисках намеков на то, откуда мы пришли, чтобы каким-то образом понять, что нам делать со всеми этими осколками, оставленными нам в качестве наследия… для решения текущих практических дел» [Уайт 2024: 48]. Историк, пишущий с такой целевой установкой, по мнению Уайта, мало чем отличается от писателя, литератора.
«Лингвистический поворот» повлиял на многие другие направления в социальных науках, например, на постструктурализм, представители которого, критикуя структуралистов, вообще отрицали стабильность существования каких-либо структур. Любые структуры, считают они, находятся в постоянном движении, воспроизводстве, пересборке. Поэтому анализировать нужно игру интерпретаций. Вот здесь и появляется понятие «интерпретация». Радикальную версию этой идеи отразил семиотик, философ, литературовед Ролан Барт в работе, смысл которой манифестируется в названии: «Смерть автора». Поскольку мы говорим об интерпретациях истории, в этом контексте трактовка Р. Барта очень важна. У Барта текст существует отдельно от фигуры автора, от его личности, биографии, позиций и взглядов. Автор, по Р. Барту, написав текст, теряет монополию на трактовку его смыслового содержания. Текст, как только он вышел из-под авторского пера, существует отдельно, самостоятельно и сразу приобретает множество интерпретаций, толкований, переосмыслений. Исторические факты, описываемые автором, тоже лишь интерпретируют реальность, а не отражают ее. Они также обуслов- лены и сконструированы культурным контекстом, средой, в которой автор находится, образованием и жизненным опытом, накопленным автором [Барт 2008].
Разделял подход Ролана Барта и Мишель Фуко , относящийся к истории как виду литературной работы [Фуко 2012]. Р. Барт оказал влияние и на Жака Деррида, который в работе «О грамматологии» обосновал метод деконструкции, где языку также отводится основная роль, придающая явлению множественные и нестабильные смыслы [Деррида 2000]. Солидарен с ними и Жан Бодрийяр, который в постмодернистской работе «Симулякры и симуляции» пишет, что в эпоху гиперреальности идентичность становится симулякром – образом без оригинала, который конструируется через медиа, рекламу и потребление [Бодрийяр 2015].
Из отечественных авторов нужно назвать семиотика, литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана. В своих работах он рассматривал любой текст как многомерный семиотический объект, который предполагает множество толкований и интерпретаций [Лотман 2002].
Перечисленные авторы заложили основу утвердившегося впоследствии постмодернистского подхода в культуре, характерной особенностью которого является признание равнозначности многовариантных интерпретаций текста.
Еще одна смысловая вариация представлена участниками постмодернистского направления в социальном знании – «нового историзма», сформировавшегося на стыке истории и литературы в 1980-х гг. в США. Идеологом направления считается Стивен Гринблатт. В построениях «новых историков» мы выделяем конкретный аспект, а именно текстуальность истории и взаимосвязь исторической реальности и языка. Объектом исследования для них являются интерпретации интерпретаций, т.е. «реинтерпретации» и их циркуляция. Следовательно, необходимо изучать, сравнивать и объяснять интерпретации текста в контексте меняющихся социальных отношений эпохи, причем равнозначная роль интерпретаторов отводится не только ученым, но и журналистам, писателям. Допускается любое вкусовое толкование, произвольный подбор и комбинация исторических источников. Они подчеркивают, что в каждую эпоху возникает иная, новая трактовка прошлого, поскольку актуальными становятся другие, близкие сегодняшним смыслы.
«Новые историки» уравнивают между собой все виды текстов, причем в любых формах – текстуальных, визуальных, художественных. По сути, «новые историки» изучают не историю, а произвольные субъективные трактовки и толкования событий прошлого. Репрезентациям, по вполне понятным причинам, сопутствуют искажения, упрощения, произвольные и вкусовые акценты, фальсификации, манипуляции и вымыслы. Новый историзм, таким образом, манифестирует еще более глубокий отход от макроисторизма, от метанарратива, от поиска логики и закономерностей в историческом процессе. Это полностью соответствует в и дению постмодернистов, рассматривающих историю не как цепь событий, обусловленных причинно-следственными связями, а как мозаику, сайт, карту, набор фрагментов, которые можно произвольно передвигать в зависимости от текущей конъюнктуры. Таким образом, провозглашенное Аристотелем стремление к поиску истины как цели любого умозрительного знания более целью не является.
Цифровизация и особенности методови приемов воздействия на историческое знание
Чтобы продемонстрировать, как на практике реализуются отмеченные смысловые инновации и как они влияют на историческое знание, мы обратились к технологическим методам и приемам, активно используемым СМИ, интернет-проектами, посвященными историческим сюжетам. В них «творцами» текста и интерпретаторами выступают уравненные в правах историки, политические и общественные деятели, читатели, блогеры, интернет-пользователи.
Главным методом, применяемым не только в представлении истории, но и в цифровой культуре в целом, является интерактивность и вовлечение пользователя. В цифровой среде контент представлен в виде мультимодального набора, вмещающего видеоролики с субтитрами, инфографику, подкасты и др. Пользователь включается в интерактивное взаимодействие с текстом, навигация по гипертексту стимулирует выбор направления движения между смысловыми блоками. И пользователь самостоятельно интерпретирует, комментирует и дополняет текст. Тем самым, прежнее восприятие текста как цельного смыслового высказывания конкретного автора в цифровой культуре заменяется коллективным взаимодействием «соавторов» и «сотворцов» текста, пересобирающих и перетолковывающих его по своему усмотрению. В качестве примера сошлюсь на интерактивное приложение Delight Games , где читатель может влиять на развитие сюжета, на взаимоотношения героев, на изменение содержания финала и т.д.
Если Ролан Барт писал о «смерти автора», то современные исследователи пишут уже о «смерти текста» [Мамедов 2021: 152] как текста в его традиционном понимании, отражающего авторский замысел, логику и идеи.
В приложениях, посвященных истории, компьютерных играх с историческим содержанием интерактивность и вовлечение в процесс особенно привлекают молодежь. В них можно «поиграть» в историю, побывать в роли полководца и выбрать различные тактики ведения боя, от которых будет зависеть исход. Можно изменять финал исторического события или судьбу его участников.
Далее мы приводим отдельные социально-технологические приемы и методы, применяемые в интернет-проектах, посвященных историческим сюжетам.
Использование особого типа источников, отражающих личностное эмоциональное восприятие происходящего . Онлайн-проекты в качестве источников опираются на дневники, мемуары, письма, архивные кино- и фотодокументы. Никаких «скучных» и серьезных текстов профессиональных историков или аналитических материалов.
Например, в проекте на тему событий революции 1917 г.1 приводятся дневники «студентов революции», в т.ч. записи юного Питирима Сорокина, тогда приват-доцента (аспиранта) юридического факультета Петроградского университета, избранного от партии эсеров депутатом Учредительного собрания, которое должно было открыться 27 ноября в 1917 г. «Я продолжаю играть роль мышки, убегающей от кошки. По закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон – это одно, а большевистская практика – другое. Все дороги ведут сейчас не в Рим, а в тюрьму. Я устал и измучен, частью напря женной ра ботой, частью голодом»2.
Эксплуатация эмоций . Популярные исторические онлайн-проекты, на примерах которых показывают методы и приемы воздействия на сознание пользователя, опираются прежде всего на эмоциональную реакцию пользователя, чувственное восприятие героев и событий. Так, один из проектов предлагает, например, почитать письма, поговорить с героями, «задать вопрос Распутину» или же «получить новогоднюю открытку из 1917 года».
Приближенный к научному формат описания данных. Каждая новость снабжена ссылкой на источник данных. Пользователь может проверить информацию, найдя соответствующее издание или архивный документ. «Достаточно дать нехитрое библиографическое описание, чтобы сделать данные историческим фактом, а из них соткать прошлое. Нехитрое, потому что в большинстве случаев описание неполное» [Акашева 2018: 115]. Отсутствуют указания на страницы или что-либо еще.
Яркая визуализация образов, фотографий и запоминающихся комментариев к ним. Данный технологический прием опирается на то, что зрительные образы и звучащая речь гораздо сильнее, чем печатное слово, воздействуют на сознание. Визуальная внушаемость по сравнению с текстом дает уже готовые образы: не нужно самому создавать образы, размышлять, не нужно формировать свое суждение, оценку. Все уже дается в готовом виде.
Играизация. Акцент на развлечении, а не образовании. В упомянутом проекте есть возможность поиграть в своеобразный Тиндер и «найти себе идеальную пару в 1917 году». Можно выбрать кого-либо из сотни предложенных исторических личностей, деятелей культуры начала ХХ в. (мужчин и женщин) с фотографиями и краткими характеристиками. Работая со студентами и разбирая технологии воздействия на сознание, я видела, что здесь они особенно оживляются. Вовлечение обеспечено полностью.
Стирание граней между прошлым и настоящим, осовременивание событий минувшего. Можно перенести себя в начало ХХ в., воспользовавшись «политическим компасом революции», который определит, «кем вы были в 1917 году», «анархист вы или черносотенец». Или напротив, переместить в сегодняшний контекст исторических личностей, живших в прошлом столетии. Один из проектов построен на том, что дневниковые записи, речи, фотографии исторических деятелей (А. Колчак, А. Луначарский, И. Сталин, А. Коллонтай, В. Розанов, М. Цветаева, М. Горький, Б. Пастернак и многие др.) представлены так, что они имитируют социальные сети1. Эти записи современный читатель, в свою очередь, может комментировать, лайкать, постить. Сеть трактуется авторами проекта как лучшая социальная сеть в истории, поскольку «все пользователи… давно умерли». Интригующая затея сразу впечатляет, и не случайно, что у проекта более 230 тыс. подписчиков.
Деятели прошлого – якобы в качестве пользователей социальной сети – в интерактивном режиме ежедневно в течение года выкладывают с помощью «режиссеров» проекта материалы своих дневников, письма, стихи. Так, пользователь с ником «В. Ленин» пишет 07.11.17 о том, что «Временное правительство низложено». Современный пользователь может поставить лайк, написать комментарий. Или же император Николай II, имеющий хэштег-метку «Гражданин Романов», «пишет в сети». Цитаты из его дневника приводятся без искажений. Но как они даются? Запись «в сети» от 11.01.18: «Днем пилил дрова, пока дочери скатывались на лыжах»2. То, что государь в это время находится в Тобольске в ссылке и что вообще происходило в этот период вокруг царской семьи, остается за кадром, ведь это не так интересно.
Обратные примеры или история в сослагательном наклонении. В онлайн-про-ектах нередко применяются обратные примеры и вариации на тему: «что было бы, если бы», позволяющие пользователю из набора предложенных альтернатив выбрать любую. Вопросы задаются иногда не слишком корректные, например, что было бы, упади Ленину на голову кирпич? Персона Ленина используется в онлайн-проектах очень активно.
Авторы проекта признаются, что в целях популяризации истории они не работают по правилам академической науки и не соблюдают нормы, незыблемые для профессиональных историков. Время, место, хронология значения не имеют.
Суггестивность медиапроектов
Интернет-проекты на исторические темы, как правило, сделаны очень профессионально, в их разработку вложены огромные средства. Они яркие, увлекательные, располагающие к тому, чтобы обратившийся к ним пользователь изначально был эмоционально открыт к восприятию предложенного, к доверию, к принятию целевых установок, которые ставятся перед проектами. В этом контексте мы можем говорить о суггестии – психологическом воздействии на сознание, при котором притупляется критическое восприятие. Играет роль и известность и статусность суггестора (источника влияния). Во всех случаях консультантами или спикерами в проектах обозначены авторитетные лица. Кроме того, в роли суггестора выступает непосредственно и сам медиаресурс.
В онлайне они конструируют миф, который воспринимается как реальность, тем самым происходит натурализация мифа. Достоверные источники комбинируются, произвольно перемешиваются, и из них образуется калейдоскоп сюжетов, лиц, голосов, которыми как элементами игры можно манипулировать. При этом интернет-пользователь не замечает, что манипулируют его собственным сознанием, что в его голове формируется историческое знание, которое тщательно срежиссировано. Оно не позволяет спокойно поразмыслить, выстроить логические связи, поискать причины и следствия событий, понять мотивы действия исторических акторов, оценить масштаб явления и подумать о последствиях рассматриваемых событий.