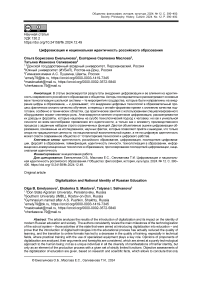Цифровизация и национальная идентичность российского образования
Автор: Емельянова Ольга Борисовна, Маслова Екатерина Сергеевна, Селиванова Татьяна Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются результаты внедрения цифровизации и ее влияния на идентичность современного российского образования и общества. Авторы последовательно рассматривают основные вехи технологизации школьной системы - те мероприятия государства, которые были направленны на внедрение цифры в образование, - и доказывают, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс фактически снизило качество обучения, а переход к онлайн-форматам привел к снижению качества подготовки, особенно в технических областях, где практические занятия с использованием специализированного оборудования играют ключевую роль. Анализируются мнения сторонников цифровизации, рассматриваются их доводы и форсайты, которые нацелены на сугубо технологический подход к человеку: не как к уникальной личности во всем многообразии проявления его идентичности, а только как к элементу производственного процесса с заданным набором строго ограниченных функций. Даются объективные оценки цифровизации образования, основанные на исследованиях, научных фактах, которые позволяют прийти к выводам, что только опора на традиционные ценности, на национальный воспитательный идеал, а не на цифровую идентичность может спасти современное общество от тоталитаризма технологий и цифрового рабства.
Идентичность российского образования, цифровизация, последствия цифровизации, форсайт в образовании, геймификация, идентичность личности, технологизация в образовании, информационно-коммуникационные технологии в образовании, прогнозирование последствий цифровизации, национальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147094
IDR: 149147094 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.49
Текст научной статьи Цифровизация и национальная идентичность российского образования
Актуальность . Современное российское образование за последнее двадцатилетие стало плацдармом множественных экспериментов. Это касается не только законодательных изменений – нового Федерального закона «Об образовании»1, введения системы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, повсеместного внедрения дистанционного обучения, не говоря уже о системных изменениях содержания образования, внедрения разнообразных программ, включения «новейших» тематических блоков и исключения ранее признанных – классических, традиционных. Если взглянуть со стороны на разнообразие новшеств, то объединяющее их начало сложно не отметить – это тренд технологизации образования, технологичности как таковой, в первую очередь это тренд цифровизации, поскольку основные изменения сопряжены с технологическим прорывом последних десятилетий – абсолютной и безоговорочной победой новейших технологий во всех практических областях жизнедеятельности современного человека: «активное проникновение Интернета, развитие искусственного интеллекта и роботизация человеческой деятельности» (Кафидулина, 2018: 9).
Что же такое цифровизация в образовании? Это угроза для общества, запускающая «процесс расчеловечивания, утраты смыслозначимой составляющей жизни в угоду механическим (искусственным, внешне заданным) алгоритмам и стандартам» (Ясперс, 1994: 95)? Или это благо, которое «приводит в исполнение движения духа всесторонним образом, – открывает человеку самые дальние горизонты» (Ясперс, 2006: 65)?
Осмысление результатов внедрения цифровизации, ее влияния на идентичность образования современного российского общества дает возможность осознать, какие изменения происходят сегодня и как они воздействуют на духовно-нравственный выбор, взаимоотношения и ценности людей, как стоит использовать технологии в интересах подрастающего поколения. Кроме того, это позволяет прогнозировать риски, угрозы, просчитывать последствия цифровизации, разрабатывать стратегии для эффективного управления новейшими процессами в образовании. В поле существующих задач нашего государства изучение влияния цифровизации на национальную идентичность образования помогает осознать позитивные и негативные перспективы социальных связей, а это способствует построению нравственного кода общества, его ценностной основы, укрепление которой сегодня выдвинуто как первостепенная задача.
Цель статьи – проанализировать фактическое состояние образования в контексте цифровизации и определить потенциал гуманистического подхода к национальной идентичности российского образования.
Методологической основой работы стали труды по исследованию влияния цифровизации на идентичность образования А.Ф. Поломошнова, О.Н. Четвериковой, М.А. Маниковской, В.В. Катасонова, Я.А. Афанасенко; по изучению последствий внедрения в образование идей цифровизации И.Е. Беляковой, М.А. Кечеруковой, И.Я. Мурзиной. В статье используются метод прогнозирования последствий цифровизации на национальную идентичность образования, а также метод аксиологической оценки цифровизации с точки зрения гуманизма.
Мероприятия государства, направленные на внедрение цифры в образование . В первое десятилетие 2000-х гг. началась стихийная цифровизация в отечественном образовании. В обычной школе появились и активно стали использоваться ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, документ-камеры, электронные микроскопы, диски, дискеты и т. д. Постепенно цифровизация школы вышла на новый уровень, стала частью учебного процесса в качестве не только вспомогательного для учителя методического технического средства обучения, но и формы деятельности самого обучаемого. Например, подготовка мультимедийных презентаций стала распространенным видом домашнего задания для ученика. После 2010 г. и до сегодняшнего дня учебный процесс приобрел альтернативные очной форме обучения возможности: это и дистанционное обучение на он-лайн-платформах, и электронные книги, учебники, и даже разнообразные нейросети с их, как многим представляется, интеллектуальным безграничным миром.
Вся технологизация школьного мира стала следствием тех мероприятий, которые были проведены Правительством Российской Федерации, иными сообществами модернизаторов системы образования. Первым шагом тотальной цифровизации школьного образования выступил проект «Московская электронная школа», начатый в 2016 г. В том же году был разработан проект «Современная цифровая образовательная среда», утвержденный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г.1
Следующим большим шагом на пути к всеобщей цифровизации образования стала федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (28 июля 2017 г.). Ее цель – использование информационно-коммуникационных технологий в разнообразных областях социально-экономической деятельности (Казакова, 2021: 255). Эта программа явилась отправной точкой для ряда событий, которые в совокупности перезапустили векторы образования в сторону цифровизации. 26 декабря 2017 г. Постановлением Правительства РФ № 1642 была принята государственная программа «Развитие образования», в которой также нашла отражение цифровизация образования2.
Одним из первых таких событий стал доклад «Образование для сложного общества», представленный на Московском международном салоне образования в апреле 2018 г. Его авторы выразили «позицию мирового экспертного сообщества»3 и в главе «Мегатренды, определяющие наше будущее» отнесли тотальную цифровизацию к основным движущим силам экономических и социальных изменений4.
В докладе названы стратегии, которые, как считают авторы, изменят будущее, в том числе систему образования. Ключевыми трендами детерминации ближайшего будущего в образовании обозначены цифровизация, турбулентность, «стратегическая неопределенность», а также «переход к эко-ориентированной цивилизации, построенной на принципах устойчивости»5. При этом образование в докладе рассматривается не как национальная система, определяющая важнейшие особенности развития российского общества в будущем, учитывающая национальную специфику российской ментальности, закладывающая лучшие качества идентичности члена российского общества. Здесь образование представлено как западная калька, «квинтэссенция современной глобальной повестки образования»6, отражающая трансгуманистические идеалы.
С 2019 по 2024 г. внедрялся национальный проект «Образование», цель которого – повышение уровня трансформации всех ступеней образования в России. Однако радикальных изменений содержания образования так и случилось, поскольку процесс цифровизации образования выявил как положительные, так и негативные аспекты этого проекта. Так, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс фактически снизило качество обучения. Переход к онлайн-форматам привел к снижению качества подготовки, особенно в технических областях, где практические занятия с использованием специализированного оборудования играют ключевую роль. В настоящее время идеологами от образования не предъявлено ясного решения этой проблемы.
Также интенсивное использование современных технологий, включая Интернет, оказало негативное воздействие на когнитивные способности обучаемых. Повышенная доступность информации в сети обусловила снижение мотивации к запоминанию и фиксации данных. Это явление, в свою очередь, привело к тотальной атрофии умственных и творческих потенциалов.
Дистанционное обучение, несмотря на свои преимущества, также обнаружило риски социальной изоляции. В виртуальной среде потеряны возможности для непосредственного общения и взаимодействия между участниками образовательного процесса, что является неотъемлемой частью полноценного развития личности. Человек по своей природе – существо социальное, нуждающееся в живом общении для гармоничного роста. Цифровые технологии при всей полезности стали барьером на пути к такому взаимодействию.
Национальный проект «Образование» также поставил еще один актуальный вопрос. С начала 2022 г. активная цифровизация образования была приостановлена из-за санкций.
Но российских аналогов цифрового оборудования для продолжения вектора цифровизации не было. Это относится и к интернет-сервисам, поставляющим форматы электронного и дистанционного обучения, которые, по сути, образовательной ценностью не обладают.
Еще одним стратегическим документом, продолжившим и развившим идеи тотальной цифровизации, послужил вышедший в 2018 г. и определивший шаги системы образования в будущем доклад «12 решений для нового образования». Данный доклад в полной мере отражал Стратегию социально-экономического развития России до 2024 г. (с перспективой до 2035 г.). Его содержание было разработано учеными Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок, которые предложили меры «для максимального вклада системы образования в технологическое раз-витие»1. Доклад открывается рассмотрением проблем российского образования: технологическое и научное отставание от «цивилизованного мира»; расслоение населения по уровню образования; сокращение человеческого капитала к 2050 г. Основными целями цифровизации в документе определены следующие: массовое использование современных цифровых учебно-методических комплексов, внедрение в учебный процесс игр и симуляторо в и др.2 Как видим, данная программа предполагает такое развитие системы образования, в котором ставка на применение технологий, цифровых ресурсов превышает ориентацию на личностное взаимодействие по модели «учитель – ученик», опору на духовно-нравственное общение всех участников образовательного процесса. Роль технологии ставится выше роли учителя, а тотальная компьютеризация нивелирует педагога как носителя знаний, отводя ему роль организатора учебного процесса, помощника, проводника в мир технологии. Документ ВШЭ предполагает, что ученик сам добывает знания посредством применения технологий, а учитель лишь сопровождает его на этом пути.
Логическим продолжением и программы развития образования до 2024 г. и стратегического документа «12 решений для нового образования» стала государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», которая названа как «Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” до 2030 г.» и направлена на повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего3. Среди ключевых задач программы выделяется «внедрение принципов цифровизации в деятельность системы образования», что подразумевает предоставление разнообразных «услуг» через цифровизацию и «Госуслуги»: «развитие различных цифровых инструментов и сервисов и создание условий для их использования в образовательных организациях, повышение квалификации педагогических работников в области цифровых технологий, искусственного интеллекта».
Также в этом документе одним из ключевых вопросов в сфере общего образования названо «преодоление школьной неуспешности детей»4. Компонентами «неуспешности» выступают неумение работать с «социально заданным» (Худолей, 2020: 76) содержанием образования, отсутствие навыка целеполагания, неспособность к учению, самостоятельности. Разработчики программы полагают, что при помощи цифровизации они смогут обеспечить порождение и развитие «личностной идентичности в процессе овладения как социально заданным, так и самостоятельно отобранным содержанием» (Худолей, 2020: 74–75), а также повысить и улучшить результаты процесса учения.
Данная государственная программа послужила основой для создания проектов, которые сегодня выступают частью реальности школьной и цифровой жизни общества. Основными проектами цифровизации образования в России стали следующие.
– «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) для реформирования и технического улучшения школ нашей страны подразумевает технологическое усовершенствование учебных заведений и внедрение особых обучающих программ для разных школьных предметов. Отметим платформу «Моя школа», на которой размещены библиотечные фонды с верифицированной учебной информацией, а также разнообразный диагностический материал.
-
– «Мой офис» предназначен для средних и высших учебных учреждений. Данная платформа включает учебное содержание, в том числе разнообразные лекции, которые можно слушать онлайн, кроме того, имеются упражнения для выполнения на виртуальных тренажерах.
-
– «Цифровой университет» содержит систему сервисов для высших учебных учреждений и организаций, занимающихся наукой.
Перечисленные проекты лишь небольшая часть тех систем, которые отражают цифровизацию в образовании.
Разработчики цифрового образования говорят о безопасности образовательного пространства, которая, по их мнению, обеспечивается верификацией содержимого. Это расширит классическую систему образования, позволит достичь «качественного образования на всей территории Российской Федерации»1. Стоит отметить, что в данной программе совершенно по-новому обозначены приоритеты образования: развития человеческого потенциала, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей предполагается достичь через «новую технологическую основу, развитие безопасного информационного пространства»2.
Такая обновленная интерпретация целей образования – развитие духовности через цифровизацию – ставит ряд вопросов. Как онлайн-сервисы будут способствовать развитию нравственных ценностей? Какой должна быть оценка эффективности деятельности онлайн-платформ с точки зрения гуманистической составляющей? Кто даст экспертную оценку всем новшествам цифровизации? Поиск ответов на эти и другие вопросы лишь усугубляет уровень дискуссионно-сти проблемы внедрения цифровизации в систему образования и выявляет необходимость определения идентичности российского образования.
Сторонники цифровизации образования: их цели и предполагаемые результаты . В оценке влияния цифровизации на образование существуют полярные точки зрения, поскольку ученые по-разному трактуют саму цифровизацию как процесс и видят разные последствия применения современных технологий в образовании. Разнообразие мнений условно можно трактовать в двух направлениях: слово приверженцев, воспевающих цифровизацию как «рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение»3, и жестких противников, анализирующих уже имеющиеся негативные результаты цифрового внедрения и угрозы цифры для образования и общества в целом.
Сторонников цифровизации образования, отмечающих ее положительные черты, условно можно разделить на два лагеря. Первые выделяют важность внедрения «цифровых ресурсов для электронного обучения как удаленно, так и непосредственно в школе или вузе…»4. Вторые делают акцент на цифровизации как на процессе формирования квалифицированных кадров, попутно критикуя традиционную систему российского образования: «Предметно-ориентированная система образования, а также слабоинтенсивное внедрение цифровых технологий в процесс обучения не дает возможности современным обучающимся стать конкурентоспособными кадрами» (Кафидулина, 2018: 12).
Подобные точки зрения сегодня не редкость. В актуальном российском социальном и академическом дискурсе, в условиях сложнейшей исторической ситуации и политическим контексте государственных решений, направленных на уход от глобалистских ценностей недружественных стран, все же идеи тотальной цифровизации нашли почитателей. Приверженцы цифровизации критикуют «традиционную рамку классно-урочной организации образовательного процесса» (Трудности и перспективы…, 2019: 15), обвиняя классическую систему преподавания в «усредняемых требованиях» к ученику, для которого традиционный подход, по их мнению, узок и малоперспективен.
С точки зрения адептов технологизации процесса образования, цифровизация стала «основой развития людей и общества в целом» (Дмитриева, Пигарева, 2022: 75). Данное мнение поддерживается авторитетными сторонниками. Так, А.Г. Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, говорит о необходимости создания «цифровой дидактики»: «Школа – это институт поиска кода понимания между поколениями. <…> Без владения цифрой мы теряем понимание друг друга»5.
Эту же позицию поддерживает и П.О. Лукша – профессор Московской школы управления «Сколково», один из авторов форсайт-проектов1, исследующих российское образование, в том числе «Образование-2030». Для реализации проектов будущего он предложил всеобщую цифровизацию образования. П.О. Лукша предлагает упразднить имеющуюся традиционную, долгими десятилетиями используемую систему оценивания и внедрить так называемый электронный индивидуальный профиль компетенций, призванный включить абсолютно все сведения об индивиде и им наработанных компетенциях. Этот профиль, по мнению автора идеи, должен стать новой альтернативой, а в дальнейшем и заменой таких документов, как диплом об образовании и трудовая книжка.
Также П.О. Лукша предложил внедрить дидактическую инноватику в преподавании: использование искусственного интеллекта в обучении, применение геймификации в учебном процессе с привлечением виртуальных миров и включением огромного числа пользователей, несистемное обучение со множеством форм, цифровое наставничество. Действительно, данные методики могли бы выступать скорее альтернативными педагогическими возможностями, если бы не одно серьезное но: в них совершенно нет места педагогике как науке о воспитании и обучении человека, поскольку роль учителя в них отсутствует и заменяется нейросетями, искусственным интеллектом.
Выводы о профессии учителя как атавизме времени могли бы показаться абсурдными, однако их реалистичность так же зрима, как и обсуждения этой темы на высоком научном уровне. Например, создатели форсайта «Образование-2030» – сотрудники Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Е.С. Заир-Бек, О.В. Окулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова) – обсудили преобразования педагогических методик, связанных с цифровизацией и указали методические системы будущего, среди которых названо так называемое «виртуально-распределенное обучение (ВРО)»2. Содержание технологии ВРО подразумевает создание мегаклассов для обучения школьников из разнообразных муниципальных образований широкой географии – сел, малых и крупных городов – в дистанционном формате. Технология выдвигает инновационное форматирование школьной системы, в которой сочетаются так называемые блоки: проектно-групповой, выездной, очный и отборочный (обучение в стационарном интернате одаренных детей по дисциплинарным профилям)3.
Форсайт «Образование-2030» представляет любопытный с точки зрения охвата цифровизации образ грядущего для системы образования – так называемую «Карту образования будущего», которая содержит достаточно смелые и вместе с тем настораживающие тренды4. Назовем лишь некоторые из них: программа для беременных женщин, подразумевающая пренатальное образование – «университет в утробе матери», включающая химиотерапию для повышения когнитивных способностей младенцев; внедрение мини-роботов в тело ребенка; создание «алмазного» букваря – беспрерывно обновляемого искусственным интеллектом содержания обучения, которое с помощью виртуальных тьюторов призвано корректировать образовательные и развивающие манипуляции и нацелено трансформировать школьника из текущего «образовательного состояния» в заданное; пожизненное образование человека с рождения и до конца жизни; включение во всеобщую игровую сеть всех участников образовательного процесса; мониторинг профессионального роста посредством компьютерной игры и т. д. Итогом тотальной цифровизации, по убеждению авторов форсайта «Образование-2030», станут следующие факты: смерть человека эпохи Возрождения; расцвет сервисов по автоподбору, приводящий к ненужности письменных текстов (книг, статей и т. д.); смена человеческой деятельности роботизацией и т. п.5
Подобные лики будущего, которые отражены в описанном форсайте, обнаруживают интенцию создания программируемого человеческого капитала с определенным набором нужных навыков: «абсолютный контроль над материальными и духовными факторами бытия вплоть до права решать, кому жить, а кому нет» (Афанасенко, 2023: 519). Сугубо технологический подход к человеку не рассматривает его как уникальную личность во всем многообразии проявления его идентичности, а только оценивает как элемент производственного процесса с заданным набором строго ограниченных функций.
Объективный взгляд на технологизацию образования . Анализ победных реляций циф-ровизаторов от образования заставляет внимательнее посмотреть на вектор цифровой трансформации образования, оценить уже имеющиеся достижения в области цифрового «улучшения» обучающихся, разобраться, как именно цифровизация работает на повышение эффективности современного образования: «…это обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования… для кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающегося» (Трудности и перспективы…, 2019: 15).
Однако именно с «кардинальным улучшением образовательных результатов каждого обучающегося», на наш взгляд, возникают зримые проблемы, поскольку многие ученые сегодня ставят вопрос о ментальных лакунах современных подростков, отмечая пробелы в осмыслении явлений, разнообразные когнитивные и аффективные состояния, отсутствие элементарной базы знаний. Например, в исследовании корреляций между креативностью и академической успеваемостью обучаемых постсоветского периода и «поколения цифры», прошедшего через ЕГЭ, проведенном И.Е. Беляковой, М.А. Кечеруковой и Ю.С. Мурзиной, были сделаны отрицательные выводы: «общий невысокий уровень креативности… по таким показателям, как оригинальность и гибкость мышления. Данные показатели оказались ниже, чем у школьников… в 1994 г. При этом два других показателя, беглость и разработанность, – выше…» (Белякова и др., 2020: 465). Данный вывод логичен в свете общего деструктива новейшей системы образования. Клиповое мышление, поверхностное скольжение по информации – характерные черты мышления современного молодого человека (Белякова и др., 2020: 472; Кутрунов, 2016: 5). Когнитивная стандартизация, клишированность мышления, понижение оригинальности – эти и многие другие проблемы молодежи так эмоционально сегодня обсуждаются критиками системы цифровизации: «мы явились свидетелями наиболее масштабного образовательного эксперимента в истории человечества… Общий охват учащихся превысил 1,75 млрд человек, плюс более 200 млн педагогов»1.
И действительно, поражают объемы внедрения технологического оборудования, закупленного для всеобщей цифровизации: «В 2021–2022 гг. … ИТ-инфраструктура заработала в 9 157 образовательных организациях. В школах было организовано больше 149 тысяч точек доступа Wi-Fi, установлено более 31 тысячи камер видеонаблюдения…»2. Такие впечатляющие цифры закупок должны ярко коррелировать с высоким уровнем образовательных результатов обучаемых и как сверхидея – демонстрировать тотальное главенство технологического прорыва перед упадничеством изживающей себя классической педагогики. Цифровые сервисы «Моя школа» и «Мой колледж», несомненно, стали прорывными системами с точки зрения технологизации образования. Но тогда почему критическое мнение о тотальной цифровизации подкрепляется и результатами международного исследования PISA, согласно которому высокий уровень компьютеризации уменьшает эффективность учебных результатов: активное использование гаджетов во время учебы снижает успеваемость3; «ограниченное использование компьютеров улучшает образовательные результаты, но попытки усиленно внедрять ЦТ… могут привести к снижению уровня знаний учащихся» (Трудности и перспективы…, 2019: 29). Экспертное мнение о вреде цифровизации, подтверждаемое широкими международными исследованиями PISA, подкрепляют иные точки зрения на цифровизацию.
Так, Я.А. Афанасенко критически изучает философские аспекты цифровизации образования, доказывает влияние пропаганды неомальтузианства4 и трансгуманизма на все новшества в российском образовании: «изменение концептуальной основы образования, связанное с превалированием идей механистического материализма, культивирование метафизического стиля мышления, отчуждение родовой сущности человека…» (2023: 524). Я.А. Афанасенко выражает справедливую обеспокоенность тем, что тотальная цифровизация ведет к дифференциации институтов образования и сегрегации обучаемых.
С резкой критикой форсайт-проекта «Образование-2030» выступили Г.Ф. Горбунов и Е.А. Окладникова1. В своем анализе они ищут ответ на острый и весьма неудобный вопрос: каковы связи стратегов «Сколково», Сбербанка с глобальной повесткой зарубежных специалистов, активно поддерживающих технологизацию российского образования? Ответ на этот вопрос авторы исследования находят в реализации глобальной повестки в целях подрыва идентичности российского образования и говорят, что «аффилированные со “Сколково” мировые глобалистские структуры действуют против любой национальной государственности»2. Авторы отмечают, что разнообразные реформаторские идеи переделки российского образования через форсайты нацелены реализовать «имперскую программу создания единого контура управления человече-ством»3, вступают в противоречие с уникальностью нашей страны, ее исторической и духовной основой. В подтверждение своих опасений Г.Ф. Горбунов и Е.А. Окладникова приводят конкретные примеры внедрения глобальной повестки в нынешнюю систему высшего образования: «Высшая школа уже работает по ФГОС 3+, переписав программы всех учебных курсов на основе не ЗУНов, а компетенций…»4. Выводы авторов пронизаны риторикой предупреждения об опасности форсайтов: «это антиутопии», образование рассматривается в них как «услуга, доходы от которой… еще не полностью освоены глобалистами как денежный и человеческий ресурс»5. В этом контексте авторам исследования убедительным представляется и афоризм чешского антифашиста Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!»6.
Эту же мысль активно высказывает в своих многочисленных и эмоциональных выступлениях по неприятию цифровизации в образовании О.Н. Четверикова (2020). Ее идеи пронизаны пафосом необходимости возвращения классической парадигмы образования как триединого процесса, включающего знания, духовное и нравственное начала: «Цифровизация напрочь вычеркивает… духовность как часть процесса… С цифровизацией уходит именно процесс учебного труда, остаются готовые картинки, готовые тексты, не нужна личность, биоцифровой человек – цифровая платформа»7. О.Н. Четверикова клеймит Болонскую систему, которая, по ее мнению, вычеркивает «гармонично развитого человека», лишь «формирует узкого специалиста»8. Особую значимость в ее выступлениях имеет мысль о ценности гуманитарного знания: «Наше образование готовило нравственных людей, которые изучали гуманитарные науки, получали профессиональные знания»9. Для О.Н. Четвериковой очевидно, что цифровизация – тренд трансгуманистической повестки, который подавляет духовно-интеллектуальное развитие как процесс всей жизни человека и в целом вредит российскому образованию, всему обществу в целом.
Созвучные идеи находят отражение и в исследовании М.А. Маниковской, которая анализирует морально-нравственный контекст цифровизации. По ее мнению, «цифровая реальность детерминирует морально-этические вызовы… Дигитализация образования провоцирует интеллектуальный коллапс, снижение креативности, лжетворчество» (Маниковская, 2019: 103). Для автора очевидны и позитивные сдвиги: за недавний период разработаны документы, отражающие духовный вектор образования и направленные на патриотическое воспитание, где важнейшая цель образования указана как культурная доминанта.
Г.В. Валеева самой глобальной угрозой цифровизации признает искажение и девальвацию «традиционных ценностей и нравственных норм, что может привести к утрате моральной идентичности личности человека и дегуманизации общества в целом» (2022). По ее мнению, цифровизация травмирует межличностную коммуникацию и искажает восприятие мира, поэтому она предлагает изменить цели образования, а также найти новую систему нравственных ценностей, которые смогут отразить пространство цифрового общества.
Но стоит ли формировать новые ценности, когда российское образование уже давно выработало проверенные временем ценности и идеалы? Вспомним популярную еще в 2010-х гг., а ныне незаслуженно обойденную вниманием идеологов современного образования Концепцию духовно-нравственного развития личности гражданина России 2009 г.1 В ней в концентрированном, концептуальном и систематизированном виде изложены те ценностные основы, которые являются традиционными для российского менталитета. В тексте Концепции обосновывается структура национальной российской идентичности, базирующаяся на нравственных скрепах: человечество, социальная солидарность, гражданственность, семья, наука, труд, творчество, традиционные российские религии, искусство, литература, природа… Разве познание этих ценностей, их глубинное принятие не является лучшей целью воспитания и образования? Служение Отечеству, патриотические чувства, глубокое осознание ответственности за судьбу Родины не должно стать истинной целью работы педагогов и общества в деле развития души юного человека? Только опора на традиционные ценности, на национальный воспитательный идеал, а не на цифровую идентичность способна спасти современное общество от тоталитаризма технологий и цифрового рабства. Идею о необходимости использовать лучшие возможности социальной организации российской цивилизации очень точно и справедливо сформулировал А.Ф. Поломошнов: «Комплекс российской социокультурной идентичности образуют три инварианта социальной, политической и духовной организации общества: державность, духовность, соборность» (Поломошнов и др., 2024: 36). Образование как важнейший социальный институт должен отражать своими содержанием, ценностями и целями этот культурный код, который и должен стать выражением идентичности гражданина России.
Поскольку тотальная цифровизация образования является крайне сомнительной новацией и несет в себе многие деструктивные риски, целесообразно обсудить необходимость ее ограничения в контексте сохранения и развития национальной идентичности российского образования. Прежде всего требуется сочетание государственного и общественного регулирования процессов цифровизации. Следует создать надежную систему защиты детей от противоправного и излишнего контента для обучения и воспитания в образовательных организациях и семье. На наш взгляд, целесообразно отказаться от использования детских гаджетов в процессе обучения в дошкольном и младшем школьном возрасте. Нужны строгий контроль и регламентация применения цифровых технологий в среднем и старшем детском возрасте. Требуется также введение цензурирования и регламентации цифровых игр и игрушек. На особый контроль необходимо поставить компьютерные игры: их содержание, графику, возрастной ценз. Важно вести разъяснительную работу о последствиях цифровизации образования, например о проблемах с физическим и психическим здоровьем детей, которые долго сидят за мониторами.
Необходимо реформирование работы центров повышения квалификации педагогов и создание современных обучающих площадок, которые помогут переориентировать педагогический процесс с формальной цифровизации на гуманистическое развитие личности в контексте национальной идентичности.
Главным средством профилактики деструктивных рисков цифровизации должна стать та огромная нравственная сила, которую И.Я. Мурзина охарактеризовала как «гуманитарное сопротивление цифровизации» – это формы символического протеста, основанные на ценностях гуманизма, опирающиеся на национально-культурные традиции (2020: 90). Воздействующая сила такого сопротивления не должна быть недооценена, оно способно оказать противодействие агрессивному дискурсу цифровизации в образовании.
Заключение . Мы видим, что основополагающие документы, определяющие деятельность системы образования, базируются на технологичности, цифровизации всех областей и уровней образования. Насильственная цифровизация несет дискретность в ценностные основы образовательной системы, а значит, разрушительно воздействует на них. Представляется, что полный и жесткий отказ от цифровых технологий не может быть продуктивным, однако связь будущности российской школы с зависимостью от цифры представляется контрпродуктивной. На наш взгляд, сегодняшнему образованию необходимы локус интеграции строго регламентированного использования цифровых технологий и актуальных методик преподавания, создание многофункциональных и адаптивных образовательных продуктов, которые должны быть построены на базисе духовно-нравственных основ личности гражданина Российской Федерации. И всякое объективное знание, которым наделяет школа ребенка, подростка, должно быть облекаемо в духовнонравственные скрепы, основанные на сугубо российской цивилизационной идентичности, чтобы классический девиз педагогов «обучая – воспитываем» получил самую благородную огранку.
Список литературы Цифровизация и национальная идентичность российского образования
- Афанасенко Я.А. Философские аспекты цифровизации образования: «антицифровизаторский» подход // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2023. № 4. С. 517-526. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2023-4-517-526.
- Белякова И.Е., Кечерукова М.А., Мурзина Ю.С. Взаимосвязь креативности и академической успеваемости по иностранному языку у студентов гуманитарного и технического профилей // Интеграция образования. 2020. Т. 24, № 3. С. 465-482. https://doi.org/10.15507/1991-9468.100.024.202003.465-482.
- Валеева Г.В. Девальвация традиционных ценностей и нравственных норм как проблема цифрового общества // Сборники конференций НИЦ «Социосфера». 2022. № 7. С. 11-13.
- Дмитриева Е.К., Пигарева Е.А. Цифровизация образования в России // Вестник науки. 2022. Т. 4, № 11 (56). С. 75-81.
- Казакова К.М. Цифровизация физического воспитания как мировой тренд в образовании // Шаг в науку: сб. ст. по материалам V Науч.-практ. конф. молодых ученых (III Всерос.) / отв. ред. А.А. Красильников. М., 2022. С. 253-264.
- Кафидулина Н.Н. Цифровизация как тренд: точки роста для российского образования // Интерактивное образование. 2018. № 1. С. 9-14.
- Кутрунов В.Н. Логика эволюционных последствий информационного взрыва. Как учить в новых условиях? // Интеграция в преподавании предметов естественно-математического цикла и информатики: механизмы и средства: сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. пед. работников. Тюмень, 2016. С. 4-7.
- Маниковская М.А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и принципам морали // Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). С. 100-106. https://doi.org/10.22394/1818-4049-2019-87-2-100-106.
- Мурзина И.Я. Гуманитарное сопротивление в условиях цифровизации образования // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 10. С. 90-115. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-90-115.
- Поломошнов А.Ф., Лыкова А.В., Лугуценко Т.В. Проблема социокультурной идентичности российской цивилизации // Культурная жизнь Юга России. 2024. № 2 (93). С. 28-39. https://doi.org/10.24412/2070-075X-2024-2-28-39.
- Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / под ред. А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. М., 2019. 343 с. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1990-5.
- Худолей Е.С. О готовности студентов профессиональных образовательных организаций к обучению в условиях цифровой трансформации образования // Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 3 (27). С. 74-79.
- Четверикова О.Н. Интеллектуальный регресс как оборотная сторона «цифровой школы» // Народное образование. 2020. № 1 (1478). С. 31-44.
- Ясперс К. Идея университета / пер. с нем. Т.В. Тягуновой. Минск, 2006. 159 с. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 527 с.