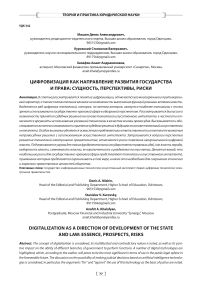Цифровизация как направление развития государства и права: сущность, перспективы, риски
Автор: Мишин Д.А., Куровский С.В., Халафян А.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие цифровизации, отмечается его многогранный и противоречивый характер, а также положительное влияние на возможности выполнения функций разными ветвями власти. Выделяется ряд цифровых технологий, которые, по мнению авторов, окажутся наиболее значимыми с точки зрения использования в государственно-правовой сфере в обозримой перспективе. Рассматривается дискуссия о возможности принятия судебных решений на основе технологий искусственного интеллекта, в частности отмечаются аргументы использования указанной технологии в качестве основы правосудия. Высказывается и обосновывается гипотеза о возможности принятия судебных решений в будущем на основе технологий искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется осмыслению проблематики ответственности в контексте вынесения неправосудных решений с использованием искусственного интеллекта. Затрагиваются вопросы перспектив развития технологий электронного правительства, отмечаются риски появления неограниченной цифровой власти. Подчеркиваются угрозы для таких фундаментальных государственно-правовых идей, как власть народа, выборность власти, сменяемость власти, ее ограниченность и разделение на три ветви. Делается вывод, что наибольшие риски для государственно-правовой сферы представляют технологии искусственного интеллекта, применение которых предлагается ограничивать в той мере, в какой это необходимо для сохранения этических и морально-нравственных ценностей общества.
Государство, информационные технологии, искусственный интеллект, право, цифровые технологии, электронное правительство
Короткий адрес: https://sciup.org/14132228
IDR: 14132228 | УДК: 342
Текст научной статьи Цифровизация как направление развития государства и права: сущность, перспективы, риски
С егодня цифровизация является одним из важнейших трендов развития современного государства, права и тех сфер общественной жизни, которые прямо или косвенно связаны с ними. Именно этим обстоятельством актуализируется рассматриваемая тема.
Необходимо отметить наличие множества дискуссионных вопросов, связанных с цифровизацией, как в целом, так и в контексте развития государства и права. При этом среди проблемных вопросов внедрения цифровизации в процессы государственноправовой сферы есть и вопросы общетеоретического, философского характера и вопросы практического характера, связанные с реализацией конкретных направлений деятельности государства. Вместе с тем решение практических вопросов представляется невозможным без осмысления проблематики цифровизации в теоретическом и общефилософском аспектах.
Особо стоит подчеркнуть проблемы возможных перспектив внедрения цифровизации в государственно-правовую сферу, а также сопутствующих такому внедрению рисков, которые весьма многочисленны, серьезны и требуют тщательного осмысления.
Все это обосновывает актуальность изучения цифровизации в контексте развития государства и права без привязки к конкретным законодательным и подзаконным нормативным правовым актам.
Цифровизация является достаточно сложным феноменом, анализу которого посвящено множество современных исследований. Поскольку единообразный подход к трактовке цифровизации не выработан, представляется принципиально важным уточнить содержание данного понятия в рамках настоящей статьи. Прежде всего стоит обратиться к определению, сформулированному в методических рекомендациях Минкомсвязи России, где цифровизация (цифровое развитие) трактуется как «основанный на информационных технологиях процесс организации выполнения в цифровой среде функций и деятельности (биз-нес-процессов), которые ранее выполнялись людьми и организациями без использования цифровых продуктов». При этом под цифровым продуктом в том же документе понимается приложение (отдельная про- грамма для электронно-вычислительных машин, ЭВМ) для выполнения некоего конечного процесса [1]. То есть в данном контексте цифровизация рассматривается как всеобъемлющий процесс внедрения цифровых (компьютерных) технологий, не ограниченный какой-либо конкретной сферой, что позволяет рассматривать проблематику цифровизации применительно к любой области деятельности, где человек использует (или будет использовать) цифровые информационные (компьютеризированные) технологии.
Сложность феномена цифровизации обусловливается его многоаспектностью, динамичностью и противоречивостью [2, с. 104], в связи с чем это понятие может быть истолковано в различных значениях [4, с. 12]. Однако вне зависимости от выбранного подхода к рассмотрению цифровизации в ее основе лежит использование цифровых технологий, базирующихся, соответственно, на ЭВМ.
Говоря о перспективах цифровизации, невозможно отрицать ее позитивного влияния практически на все сферы общественной жизни, среди которых сферы государственного управления и права, где благодаря цифровизации существенно упрощаются, ускоряются, становятся более экономичными коммуникационные процессы [4, с. 13]. Это способствует определенной трансформации практически всех государственно-правовых институтов в сфере реализации законодательной, исполнительной и судебной власти.
Так, цифровизация в сфере правотворчества позволяет более активно вовлекать в этот процесс население, например, путем вынесения на обсуждение законодательных актов, обеспечивая, таким образом, учет общественного мнения. В сфере реализации исполнительной власти цифровизация позволяет решать широкий спектр проблем, возложенных на соответствующие органы, но при более тесной коммуникации и при активном вовлечении населения. В сфере правосудия цифровизация позволяет рассматривать судебные дела в дистанционном формате, обеспечивая более оперативный процесс.
Цифровые технологии весьма разнообразны. Однако среди тех технологий, которые перечисляются в упомянутых выше Методических рекомендациях [1] представляется возможным особо выделить беспроводную связь, цифровые платформы, искусственный интеллект (далее – ИИ) и дополненную реальность. Думается, именно они являются наиболее значимыми с точки зрения развития государства и права. Наиболее сложной, противоречивой и в то же время перспективной является технология ИИ, применение которого уже становится предметом острых дискуссий, причем не только в научно-теоретическом контексте.
Этот вопрос крайне неоднозначен, поскольку усматриваются аргументы как в пользу применения технологий ИИ при разрешении дел судами, так и против этого, при этом обе группы аргументов весьма конкретны и убедительны.
Так, внедрение ИИ в процесс принятия решения по делу в суде можно аргументировать следующим:
-
1) экономичность – разрешение судебных дел на основе ИИ может существенно снизить трудоемкость судопроизводства;
-
2) возможность существенно ускорить процесс судебного разбирательства – разрешение судебных дел на основе ИИ может позволить значительно ускорить процесс правовой оценки документов и прочих доказательств, их анализа, обобщения и прочих операций, которые, как правило, выполняются человеком и требуют существенных затрат времени;
-
3) возможность исключения ошибок, обусловленных недостаточно тщательным исследованием материалов дела – в случае использования технологий ИИ может быть минимизирована либо полностью исключена роль человеческого фактора.
Преимущества технологий ИИ в значительно мере обусловлены возможностью быстрой обработки огромных массивов информации, что человеку недоступно, в том числе при рассмотрении судебных дел. В этой связи М.И. Клеандров указывает на значительный объем информации, которую должен изучить судья при рассмотрении дела. В качестве примера данный автор приводит дела о банкротстве, которые нередко включают по 300-350 томов (в случае банкротства крупных корпораций), а каждый из томов насчитывает, как правило, не менее 150 листов [6, с. 16]. Очевидно, что даже ознакомление с таким объемом юридически значимого материала весьма трудозатратно. Однако этого недостаточно. Судья также должен проанализировать все имеющиеся в деле материалы, дав каждому из них соответствующую правовую оценку, соответствующее обоснование и ссылки на конкретные нормы закона, что представляется еще более сложной задачей. Указанный аспект позволяет М.И. Клеандрову прийти к выводу, что в полном диапазоне подобные объемы юридически значимой информации может воспринять и обработать робот [6, с. 18], с чем отчасти можно согласиться.
Вместе с тем следует признать невозможность замены человека технологиями ИИ ввиду некоторых особенностей, которые свойственны только человеку. Так, при рассмотрении судебных дел принципиально важно руководствоваться признаваемыми в человеческом социуме ценностями справедливости, гуманизма, уважения и прочими моральными ориентирами, которые и в прежние времена, и в современную эпоху остаются основой юридически значимых отношений, несмотря на формализм и эмоциональную нейтральность таких отношений. Но такого рода ориентиры свойственны лишь человеку, ИИ они недоступны, на что указывает М.И. Клеандров [6, с. 18]. В этой связи именно человеческие качества лежат в основе аргументов, направленных против внедрения ИИ в процесс принятия судебных решений.
В то же время нельзя согласиться с указанным автором в том, что передача функций судьи-человека к судье-роботу невозможна [6, с. 24], поскольку в зарубежной практике попытки такой замены, пусть и частичной, имеют место, причем в полной мере неудачными их вряд ли можно назвать. Так, в США разработаны и предлагаются на рынке основанные на технологии ИИ продукты, позволяющие с вероятностью более чем 70 % спрогнозировать результат рассмотрение дела судом, а также тактику сторон разбирательства. При этом алгоритмы прогнозирования засекречены, о чем пишет Е.В. Купчина [7, с. 67-68].
Очевидно, что на данный момент такого рода технологии не смогут обеспечить возможность рас-смотренияспорабез непосредственного изучения материалов дела судьей. Однако если учесть, что цифровые технологии прогрессируют, а продукты на основе ИИ способны к самообучению, то можно полагать, что через некоторое время точность принимаемых решений будет существенного выше, а значит, такие технологии могут иметь место при разрешении дел судами. Возможно, судьи, уполномоченные рассматривать дела, при принятии решений в целом по делам или по отдельным вопросам будут руководствоваться оценкой обстоятельств, полученной в результате применения технологий ИИ. Думается, что такие варианты развития событий в перспективе нельзя исключить.
Не приходится сомневаться также в том, что внедрение ИИ в систему правосудия повлечет обо- стрение проблемы ответственности за принятые решения, особенно в сфере уголовного судопроизводства. Если в настоящее время ответственность за вынесение неправосудных, незаконных, несправедливых решений несет персонально судья, а также государство, из бюджета которого возмещается вред в соответствующих случаях, то в случае принятия неправосудного решения с использованием технологий ИИ судья не будет нести персональной ответственности в полном объеме. Привлечение судьи к ответственности без вины будет, во-первых, несправедливым ввиду неподконтрольности ему процесса принятия решения ИИ, во-вторых, будет противоречить фундаментальному принципу виновности, сложившемуся за многовековую историю развития права, де-юре исключающему возможность осуждения невиновного человека.
Внимание следует уделить и перспективам развития технологии электронного правительства, которая уже активно применяется, причем как в России, так и в других странах мира, и в целом представляется собой автоматизацию стандартных административных процедур [8, с. 26], позволяющую оперативно взаимодействовать гражданам с различными государственно-правовыми институтами, относящимися, прежде всего, к исполнительной власти. Кроме того, в рамках технологии электронного правительства происходит взаимодействие различных государственновластных структур друг с другом, что совершенствует практику реализации государством его функций.
Однако на практике при обсуждении вопросов развития электронного правительства речь пока идет именно об автоматизации, но без активного вовлечения ИИ в процесс принятия государственного значимых решений. В случае внедрения технологий ИИ в процесс принятие таких решений, особенно на высшем уровне, проблематика, думается, будет принципиально иной, чем в настоящее время.
Так, Г. И. Авцинова особое внимание обращает на риск возникновения так называемой цифровой власти, причем безграничной. И данный риск расценивается ей как главный [2, с. 104]. Безусловно, это мнение не является безосновательным, поскольку в случае, когда решение государственно значимых вопросов будет происходить на основе технологий ИИ, роль таких основополагающих принципов организации государства, как сменяемость власти, ее ответственность, ограниченность посредством разделения на законодательную, исполнительную и судебную, выборность (применительно к законодательным органам) будет поставлена под сомнение.
Более того, под сомнение может быть поставлена также идея о том, что главным источником власти является народ. В случае выполнения государственно-властных функций человеком только он яв- ляется тем представителем от народа, через которого эта власть реализуется. То есть и де-факто, и де-юре люди реализуют власть в отношении людей, будучи ограниченными этическими и морально-нравственными нормами, которые свойственны человеку, приняты всем обществом и нашли отражение в праве. В случае выполнения государственно-властных функций посредством ИИ вряд ли будут основания говорить о том, что именно народ является единственным источником власти.
Так, человек-судья, выносящий решение на основе созданных человеком норм и руководствуясь своим внутренним убеждением, безусловно, является представителем народа при совершении правосудия. В этом случае уместно говорить о том, что народ есть источник власти, хотя эта власть не является непосредственной. Избранные народом члены законодательного органа, разрабатывающие и по своему внутреннему убеждению голосующие за конкретный закон, являются частью этого народа и действуют от его имени. Соответственно, народ остается источником власти, по крайней мере власть реализуется его представителями. Когда правотворческие акты формируются на основе технологий ИИ, когда голосование в пользу поддержки тех или иных инициатив осуществляется «по рекомендации» ИИ, когда человек-судья выносит решение, сгенерированное роботом-судьей, когда законы принимаются в соответствии с вариантами исполнения, «рекомендованными» ИИ, уместно ли говорить о том, что именно народ является источником власти?
Думается, что ответы на указанные вопросы будут зависеть от того, каким будет соотношение человеческого (естественного) и ИИ при принятии государственно значимых решений.
В любом случае дать однозначную оценку отдаленных перспектив развития цифровизации невозможно. В научной литературе взгляды на этой проблематику отличаются полярностью – от концепций «прямого» общественного управления, идеализирующих процесс цифровизации, до идей «цифрового тоталитаризма» [2, с. 104].
Проблематика цифровизации в государственно-правовой сфере выходит далеко за рамки тех вопросов, которые касаются возможностей электронного обращения в суд или иные органы власти, использования видео-конференц-связи [5, с. 72], повышения доступности для граждан публично-правового поля [3, с. 17] или рисков роста киберпреступности и утечки персональных данных [2, с. 105].
Думается, что наиболее важные фундаментальные вопросы развития цифровизации в контексте отдаленной перспективы во многом связаны с внедрением в государственно-правовую сферу ИИ и сохранением таких государственно-правовых ценностей и принципов, как выборность власти, ее сменяемость, ограниченность, ответственность, осуществление власти народом, поскольку именно ИИ несет наиболее существенные риски для указанных ценностей. В этой связи представляется принципиально важным на законодательном уровне установить пределы использования ИИ при принятии решений на высшем уровне, чтобы исключить принятие решений, противоречащих этическим и морально-нравственным ценностям общества.
Список литературы Цифровизация как направление развития государства и права: сущность, перспективы, риски
- Разъяснения (методические рекомендации) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": утв. Приказом Минкомсвязи России от 01.08.2018 № 428 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343571/(дата обращения: 11.11.2022).
- Авцинова Г.И. Государственная политика цифровизации в современной России: понятие, концепции, тренды развития // PolitBook. 2022. № 2. С. 101-113. EDN: VCAZYW
- Дзидзоев Р.М., Лолаева А.С. Цифровая (электронная) демократия в России: понятие и пределы // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2022. № 2. С. 14-20. EDN: RLDPKG
- Жолдасова Ш. Цифровизация государственного управления // Universum: экономика и юриспруденция. 2022. № 10 (97). С. 12-14. EDN: SANAWT
- Карасев А.Т., Савоськин А.В., Мещерягина В.А. Цифровизация правосудия в Российской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2 (30). С. 71-77. EDN: OIOAQQ
- Клеандров М.И. Размышления на тему: может ли судьей быть робот? // Российское правосудие. 2018. № 6 (146). С. 15-25. EDN: XOTJOH
- Купчина Е.В. Применение технологии искусственного интеллекта в системе гражданского судопроизводства США // Правовая парадигма. 2021. Т. 20, № 4. С. 63-71. EDN: IJZBNJ
- Сморчкова Л.Н. Цифровое правительство как перспектива государственного управления в России: информационно-правовые аспекты // Правовая информатика. 2022. № 2. С. 25-33. EDN: DQLHIV
- Талапина Э.В. Использование искусственного интеллекта в государственном управлении // Информационное общество. 2021. № 3. С. 16-22. EDN: BDZSVI