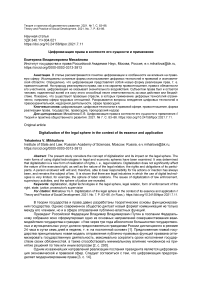Цифровизация права в контексте его сущности и применения
Автор: Екатерина Владимировна Михайлова
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятие цифровизации и особенности ее влияния на правовую сферу. Исследованы основные формы использования цифровых технологий в правовой и экономической областях. Определено, что цифровизация представляет собой новую форму реализации прав, т. е. правоотношений. На природу реализуемого права, как и на характер правоотношения, права и обязанности его участников, цифровизация не оказывает значительного воздействия. Субъектом права был и остается человек, наделенный волей и в силу этого способный нести ответственность за свои действия или бездействие. Показано, что существуют правовые отрасли, в которых применение цифровых технологий ограниченно, например сфера трудовых отношений. Раскрываются вопросы внедрения цифровых технологий в правоохранительной, надзорной деятельности, сфере правосудия.
Цифровизация, цифровые технологии в правовой сфере, правоотношение, форма реализации права, государство, правосудие, прокурорский надзор
Короткий адрес: https://sciup.org/149132262
IDR: 149132262 | УДК: 340.11+004.021 | DOI: 10.24158/tipor.2021.7.11
Текст научной статьи Цифровизация права в контексте его сущности и применения
Институт государства и права Российской Академии Наук, Москва, Россия, ,
Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
В теории государства и права давно разработаны теоретические основы функционирования государства. Однако современное общество диктует новый формат коммуникаций не только между его членами, но и в сфере отправления публично-властных функций.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию ясно сформулировал одно из основных направлений совершенствования взаимодействия государства и граждан: «Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, т. е. на постоянной основе» [1]. Предложенная главой государства принципиально новая модель отправления публично-правовых функций призвана оптимизировать государственную деятельность, максимально сократить сроки исполнения государством своих обязанностей, а также способствовать минимальному влиянию чиновников на принятие решений по тем или иным вопросам [2, с. 290].
Одним из важнейших направлений реализации послания президента является цифровизация экономической и правовой сфер. Следует согласиться с тем, что цифровизация предопределяет модернизирование права [3, с. 14].
В науке можно встретить мнение о том, что уже в 2021–2030 гг. так называемый искусственный интеллект будет наделен правовым статусом (пусть и ограниченным) и, как следствие, возможностью вступать в правоотношения [4, с. 36]. С данной точкой зрения трудно согласиться. Как справедливо отмечает А.В. Габов, право создано человеком и для человека, оно антропоцентрично [5, с. 97].
Представляется обоснованным суждение о том, что в настоящее время цифровизация выражается в трех аспектах: переходе с аналоговой формы передачи информации на цифровую; «оцифровывании» информации для ее дальнейшего использования и хранения; широком применении цифровых и иных технологий в современной жизни [6, с. 43]. Переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое также часто связывают с цифровизацией экономики [7, с. 96-97].
Следует согласиться с мнением, высказанным В.С. Циренщиковым. Процесс цифровизации ученый сравнивает с внедрением в экономику химических, электрических процессов и остроумно отмечает, что, несмотря на это, «электрической» или «химической» экономик не появилось [8, с. 105].
Как верно отмечают в литературе, цифровые технологии должны способствовать максимальному сокращению сроков передачи данных от производителей к потребителям [9, с. 32]. В области права цифровизация представляется инструментом систематизации, анализа, обобщения правовых норм и практики их применения. Как справедливо указывает А.В. Холопов, ее оборотной стороной могут стать формализация права, сведение его к формализованным инструкциям и правилам, лишенным метафизического смысла, деградация права [10, с. 9].
Однако существует мнение о том, что цифровизация не сводится к автоматизации правовых процессов и должна приводить к кардинальным структурным изменениям, особенно в правоохранительной деятельности, в том числе по внедрению в нее так называемого искусственного интеллекта [11, с. 10]. При этом некоторые авторы отмечают, что значение человеческого капитала, в первую очередь умственного труда, в обществе только возрастает [12, с. 87]. Ученые справедливо указывают, что цифровизация не просто не отодвигает индивида на второй план, как это может показаться сначала, именно интересы человека, его воля ставятся во главу угла [13, с. 313].
В целом цифровизация - это техническая категория. Иногда ученые разводят понятия «компьютеризация» и «цифровизация» [14, с. 7]. Применение цифровых технологий хотя и привносит известную специфику в привычные правоотношения (например, в куплю-продажу товаров в Интернете), тем не менее существа правоотношений не меняет.
В частности, некоторые авторы пишут о цифровых технологиях в трудовых правоотношениях, отмечая, что работодатель при приеме на работу может проводить собеседования по видеосвязи [15, с. 106]. Конечно, если работодатель довольствуется таким вариантом, это очень удобно. Однако суть трудовых правоотношений подобный формат собеседования не изменит: будучи принятым, работник становится традиционным субъектом трудового права и расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке на основании того, что собеседование с использованием видеосвязи не позволило работодателю в полной мере составить профессиональный портрет сотрудника, не получится.
Необходимо помнить, что право - это модель социального поведения, взаимодействия людей друг с другом. Как писал великий русский ученый Н.М. Коркунов, «право и обязанность составляют принадлежность субъекта. Без субъекта они существовать не могут: и право, и обязанность должны непременно быть чьи-нибудь» [16, с. 155].
В настоящее время цифровые ресурсы (сеть Интернет, различные социальные сети и сайты, мессенджеры) не только дают возможность социального общения, профессиональной, семейной и дружеской коммуникации (как это изначально предполагалось), но и предоставляют прямые ресурсы для извлечения нетрудового дохода, уклонения от уплаты налогов, а также совершения различных правонарушений. Нарушения гражданского, авторского, налогового, предпринимательского и иного неуголовного законодательства также требуют соответствующих решений законодателя и определения общих принципов практики их применения.
Основные законодательные акты как Российской Федерации, так и многих стран мира сконструированы в основном без учета возможности использования цифровых технологий: так, не предусматривается порядок определения ответственного лица за вред, причиненный источником повышенной опасности (автомобилем) в случае, если он управляется электронным устройством (автопилот); не обозначены вид и мера ответственности разработчика и обладателя прав интеллектуальной собственности на цифровое (робототехническое) устройство в случае причинения кредитным и иным организациям или гражданам имущественного вреда при сбое или технической ошибке данного устройства; не определяется ответственность обладателей прав на цифровые платформы или домены в ситуации размещения на них противоправной, клеветнической информации и т. д. Все это свидетельствует о необходимости модернизации отечественного законодательства – как материального, так и процессуального. Как справедливо полагает А.И. Овчинников, цифровизация права увеличивает риски технократического отношения к правам и свободам человека [17, с. 257].
Особую остроту приобретают вопросы отправления правосудия и осуществления надзорных функций в условиях цифровизации правовой сферы. Например, одним из ключевых принципов судопроизводства (как гражданского, арбитражного, так и административного, уголовного) является непосредственность. В соответствии с этим принципом суд, рассматривающий дело, должен лично, непосредственно, изучить все доказательства в деле. Разумеется, принцип непосредственности появился в российском законодательстве неслучайно. Те же доказательства судья может рассмотреть и без вызова сторон, однако заслушивая объяснения, возражения, ответы на вопросы, он составляет психологический портрет их представителей и на основании своего профессионального опыта делает выводы об их искренности, добросовестности, осознании каких-либо обстоятельств (в частности, в деле о признании сделки недействительной). Все это помогает ему принять не формально законное, а справедливое решение. А правосудие – это, как известно, суд правый, т. е. справедливый.
То же касается отправления надзорных функций. Цифровой прокурорский надзор, как и электронное правосудие, – путь к формализму в правоприменительной деятельности, венцом которого будет уничтожение гуманизма и справедливости.
Таким образом, цифровизация правовой сферы означает появление еще одной, сопутствующей традиционной, формы реализации правоотношений. Сути права это не меняет – его теоретические основы остаются прежними. Однако использование информационно-коммуникационных ресурсов, робототехнических устройств, цифровых площадок требует переосмысления и переформатирования способов отправления государственных функций, в связи с чем видится неизбежным принятие новых законов, направленных на регулирование применения цифровых технологий.
Список литературы Цифровизация права в контексте его сущности и применения
- Послание Президента РФ Федеральному собранию от 21 апр. 2021 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Михеева Т.Н., Бояринцева И.А. О некоторых понятийных и правовых аспектах цифровизации // Вестник Марийского государственного университета. Сер.: Исторические науки. Юридические науки. 2019. Т. 5, № 3 (19). С. 289–296. https://doi.org/10.30914/2411-3522-2019-5-3-289-296.
- Сарпеков Р.К. Цифровизация правового пространства // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. № 3 (61). С. 12–24.
- Гандалоев Р.Б., Грудцына Л.Ю. Цифровизация и право // Образование и право. 2020. № 11. С. 36–41. https://doi.org/10.24411/2076-1503-2020-11104.
- Габов А.В. Правосубъектность: традиционная категория права в современную эпоху // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 2 (121). С. 96–113.
- Гайворонская Я.В., Мирошниченко О.И., Мамычев А.Ю. Нескромное обаяние цифровизации // Правовая парадигма. 2019. Т. 18, № 4. С. 40–47. https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.5.
- Кузнецова Т.Ф. Цифровизация и цифровая культура // Горизонты гуманитарного знания. 2019. № 2. С. 96–102. https://doi.org/10.17805/ggz.2019.2.7.
- Циренщиков В.С. Цифровизация экономики Европы // Современная Европа. 2019. № 3. С. 104–114. https://doi.org/10.15211/soveurope32019104113.
- Гончаренко Л.П., Сыбачин С.А. Цифровизация национальной экономики // Вестник университета. 2019. № 8. С. 32–38. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-8-32-38.
- Холопов А.В. Человек в условиях цифровизации права: проблемы и пути развития // Юридическая наука. 2020. № 6. С. 8–12.
- Воронцов С.А., Мамычев А.Ю. «Искусственный интеллект» в современной политической и правовой жизнедеятельности общества: проблемы и противоречия цифровой трансформации // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2019. Т. 11, № 4. С. 9–22. https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2019-4/009-022.
- Пороховский А.А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13, № 2. С. 84–91. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2020-13-2-84-91.
- Порохов Е.В. Цифровизация и налоговое право // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. № S1 (59). С. 310–316.
- Основные подходы к пониманию цифровизации и цифровых ценностей / Л.Н. Данилова, Т.В. Ледовская, Н.Э. Солынин, А.М. Ходырев // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 2. С. 5–12. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-2-5-12.
- Щербакова О.В. Цифровизация трудовых отношений // Междисциплинарные исследования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего : сборник статей международной научно-практической конференции. М., 2021. С. 104–111. https://doi.org/10.24412/cl-35983-2021-1-104-111.
- Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. 456 с.
- Овчинников А.И. Риски в процессах цифровизации права // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 257–261.