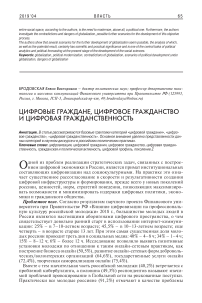Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность
Автор: Бродовская Елена Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются базовые трактовки категорий «цифровой гражданин», «цифровое гражданство», «цифровая гражданственность». Основное внимание уделено представленности данных категорий в научном дискурсе и в российских политических практиках.
Цифровизация, цифровой гражданин, цифровое гражданство, цифровая гражданственность, гражданская и политическая активность, цифровой профиль, поколение z
Короткий адрес: https://sciup.org/170170993
IDR: 170170993 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6587
Текст научной статьи Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность
О дной из проблем реализации стратегических задач, связанных с построением цифровой экономики в России, является примат институциональных составляющих цифровизации над социокультурными. На практике это означает существенное рассогласование в скорости и результативности создания цифровой инфраструктуры и формирования, прежде всего у новых поколений россиян, ценностей, норм, стратегий поведения, позволяющих максимизировать возможности и минимизировать издержки цифровых политики, экономики и гражданского общества.
Проблемное поле. Согласно результатам научного проекта Финансового университета при Правительстве РФ «Влияние цифровизации на профессиональную культуру российской молодежи» 2018 г., большинство молодых людей в России являются настоящими аборигенами цифрового пространства, о чем свидетельствует довольно ранний старт в использовании интернет-коммуни-кации: 25% – в 7–10-летнем возрасте; 45,5% – в 10–13-летнем возрасте; еще четверть – в возрасте старше 13 лет. При этом самая существенная доля молодых россиян проводит треть дня в социальных медиа: 40% – 4–8 ч; 34% – 1–4 ч; 15% – 8–12 ч; 6% – более 12 ч. Исследование позволило выявить позитивные установки молодежи по отношению к таким онлайн-сетевым практикам, как построение бизнеса онлайн (50,5%), развитие онлайн-сетевых форм доброволь-ческих/волонтерских организаций (64,6%), государственные услуги онлайн (72,4%), творческая самореализация онлайн (75,4%).
Вместе с тем значительная часть российской молодежи (40,2%) встречается с проблемой кибербуллинга, а половина (49,3%) респондентов называют значимой проблемой провоцирование в Глобальной сети на рискованные поступки. Практически все молодые россияне (91,2%) отмечают в качестве проблемы масштаб распространения недостоверной информации в цифровой среде. Каждый второй представитель молодого поколения (57,9%) признает, что регулярно испытывает на себе угрозу нарушения собственной неприкосновенности онлайн. Практически все молодые россияне (91,8%) заявляют о проблеме распространенности ненормативной лексики в интернет-контенте. Весьма значительная часть молодежи (43,3%) считает риском широкое распространение экстремистских сообщений в интернет-пространстве. Абсолютное большинство (69,3%) отмечают наличие постоянных вирусных атак в Глобальной сети. Несмотря на рискогенность интернет-коммуникации, 25% российской молодежи не знают, что предпринять, и ничего не предпринимают в ситуации столкновения с рисками в цифровой среде. В борьбе с рисками интернет-ком-муникации в предпоследнюю очередь представители поколения Z обращаются за помощью к родителям, в самую последнюю очередь – к учителям школ и преподавателям ссузов/вузов.
Представленная картина контрастирует с пониманием термина «цифровое гражданство», введенного в научный оборот Карен Моссбергер, который предполагает высокий уровень готовности к ответственному, безопасному и эффективному использованию цифровых коммуникаций. Формирование культуры цифрового гражданства предполагает системные усилия по развитию у молодого поколения россиян надпрофессиональных компетенций, позволяющих, во-первых, быть этичными, готовыми поддерживать принятый в обществе и закрепленный в законодательстве порядок взаимодействия в интернет-про-странстве; во-вторых, создавать безопасные условия для себя и других участников онлайн-коммуникации, осознавать свою ответственность за личную безопасность и безопасность других пользователей; в-третьих, максимизировать возможности цифровой среды для личностного развития, получения образования и углубления профессионализации, создания бизнеса и т.д., т.е. повышения эффективности в условиях цифровой эпохи; в-четвертых, уметь применять государственные и общественные интернет-сервисы, обеспечивающие вовлеченность граждан в конструктивный и конвенциональный диалог с властными структурами, – иными словами, пользоваться инструментами цифровой демократии. Следовательно, базовыми сферами применения культуры цифрового гражданства являются безопасность, бизнес и демократия.
Степень научной разработанности проблемы. Определению базовых характеристик, позволяющих разграничить «цифровых граждан» и «не цифровых граждан», посвящены работы Дж. Коэна, Э. Шмидта, а также Н. Кулдри, Х. Стефансена и др. [Коэн, Шмидт 2013; Couldry, Stephansen et al. 2014]. Влияние цифровизации на гражданскую активность и развитие гражданского общества находится в фокусе внимания таких исследователей, как Л. Джонс и К. Митчелл [Jones, Mitchell 2016]. На дифференциации стилей гражданства под воздействием цифровых коммуникаций сосредоточены У. Беннетт, C. Уэллс, А. Ранг [Bennett, Wells, Rank 2009] и др. Вопросы академической подготовки в школах и вузах, направленной на формирование и укоренение культуры цифрового гражданства, затрагиваются в работах М. Риббла, К. Маттсон, Д. Олера [Ribble 2015; Mattson 2017; Ohler 2010] и др.
Необходимо отметить, что категория «цифровое гражданство» является относительно новой для пространств политической науки и публичной политики в России. Одновременно с данной категорией употребляются такие понятия, как «цифровые граждане» и «цифровая гражданственность». При этом мы можем наблюдать существенную дифференциацию в наполнении понятия «цифровое гражданство» и смежных с ним понятий.
Цифровые граждане (digital citizens). Категория «цифровой гражданин» чаще всего применяется в двух аспектах. Во-первых, как статус, приобретаемый в связи с применением интернет-коммуникации. Иными словами, цифровой гражданин приравнивается к онлайн-пользователю. Данная традиция укоренена, прежде всего, благодаря концепции сетевого клуба Джареда Коэна и Эрика Шмидта.
Во-вторых, к цифровым гражданам причисляют представителей так называемого поколения Z , социализация которых совпала с эпохой распространения массового Интернета.
В-третьих, цифровые граждане упоминаются в связи с планами создания инфраструктуры цифрового профиля российского гражданина.
Цифровое гражданство (digital citizenship) . Применение категории «цифровое гражданство» также характеризуется многоаспектностью. Одно из самых распространенных толкований данного термина связано с реализованной или планируемой практикой ряда государств, направленной на обретение статуса гражданина онлайн. Исходя из этого, цифровое гражданство понимается как цифровой порядок получения правового статуса.
Помимо этого, цифровое гражданство трактуется в качестве культурного феномена, отражающего социализацию новых поколений под влиянием цифровых коммуникаций. В этом смысле цифровое гражданство наполняется ценностным и нормативным пониманием, а следовательно, способно выполнять ряд регулятивных функций.
В дополнение к предложенным трактовкам можно указать и на такую грань цифрового гражданства, как совокупность надпрофессиональных и цифровых компетенций, формирование которых является неотъемлемой частью системы образования за рубежом.
Цифровая гражданственность (digital citizenship) . Термин «цифровая гражданственность» употребляется исследователями в связи с тем, что общемировым и российским трендом является перенос общественно-политической активности, в особенности молодых людей, в онлайн-среду. Одной из доминант в оценках онлайн-сетевых практик российской молодежи является позитивное отношение к сетевому протесту, о чем также свидетельствует и число подписчиков в аккаунтах внесистемных и радикальных политических сил.
Цифровая гражданственность может также пониматься как часть политической субкультуры, целенаправленно формируемой в цифровой среде политическими акторами, осуществляющими продвижение партийных брендов и имиджей политических лидеров, преимущественно онлайн.
Наконец, цифровая гражданственность в более широком контексте развития цифровой демократии наполняется содержанием, связанным с системными усилиями государства, направленными на преодоление недоверия к институту выборов посредством расширения практик электронного голосования. В данном случае цифровая гражданственность рассматривается и как инструмент, и как результат реализации практик цифровой демократии.
В результате можно сделать следующие выводы.
-
1. Дискуссионным остается вопрос относительно квалификации принадлежности к цифровым гражданам. Достаточно ли в данном случае онлайн-пользо-вательской активности, принадлежности к поколению Z или опыта применения государственных интернет-сервисов? Неоднозначность ответа обусловлена, во-первых, дифференцированным влиянием цифровизации на представителей одного и того же поколения, а во-вторых, тем, что упрощение содержания понятия не учитывает многообразия стилей цифрового гражданства.
-
2. Очевидно, что сам по себе перенос гражданской и политической активности в цифровое пространство не приводит автоматически к преодолению
-
3. Одной из проблем, сдерживающих реализацию цифровизации как политического курса и системы стратегических национальных проектов в нашей стране, является конфликт формальных и неформальных практик: институты и инфраструктура гражданского и политического участия контрастируют с офлайн- и онлайн-сетевым абсентеизмом всех возрастных групп россиян. Решение обозначенной проблемы может быть связано с дополнением компе-тентностного контура на различных уровнях образования знаниями, умениями и навыками цифрового гражданства, такими как цифровая этика, цифровая безопасность, цифровая эффективность, цифровая демократия.
дефицита демократических акторов. Понимаемое как построение цифровой инфраструктуры, цифровое гражданство не гарантирует развития цифровой демократии. Необходимы системные усилия власти, бизнеса, гражданского общества по формированию, институционализации, укоренению культуры цифрового гражданства ( digital citizenship ).
Перспективы исследования. Среди базовых проблем цифровизации в контексте реализации задач государственного и муниципального управления в России, нуждающихся в дополнительных исследованиях и осмыслении, можно выделить следующие:
-
– конфликт формального и неформального в процессе цифровизации;
-
– цифровое неравенство;
-
– дефицит культуры цифрового гражданства;
-
– разрозненность усилий государства и гражданского общества;
-
– раскоординированность в деятельности властных структур, реализующих задачи цифровизации;
-
– асимметрию в скорости и результативности цифровизации в бизнесе и политике;
-
– высокую рискогенность и проблему управления рисками цифровизации и др.
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 19-011-31291 «Культура “цифрового гражданства” российской молодежи: акторы, технологии формирования, общественно-политические эффекты».
Список литературы Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность
- Коэн Дж., Шмидт Э. 2013. Новый цифровой мир. М.: Манн, Иванов и Фербер. 368 с
- Bennett W.L., Wells C., Rank A. 2009. Young Citizens and Civic Learning: Two Paradigms of Citizenship in the Digital Age. - Citizenship Studies. Vol. 13. No. 2. P. 105-120
- Couldry N., Stephansen H., Fotopoulou A., MacDonald R., Clark W., Dickens L. 2014. Digital Citizenship? Narrative Exchange and the Changing Terms of Civic Culture. - Citizenship Studies. Vol. 18. No. 6-7. Р. 615-629
- Jones L.M., Mitchell K.J. 2016. Defining and Measuring Youth Digital Citizenship. - New Media & Society. Vol. 18. No. 9. Р. 2063-2079
- Mattson K. 2017. Digital Citizenship in Action: Empowering Students to Engage in Online Communities. Arlington: International Society for Technology in Education 134 p
- Ohler J. 2010. Digital Community, Digital Citizen. Corwin. 256 p
- Ribble M. 2015. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. Arlington: International Society for Technology in Education. 222 p