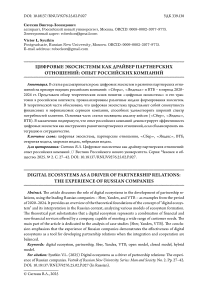Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
Автор: Сюткин В.Л.
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль цифровых экосистем в развитии партнерских отношений на примере ведущих российских компаний: «Сбера», «Яндекса» и ВТБ – в период 2020– 2024 гг. Представлен обзор теоретических основ понятия «цифровая экосистема» и его трактовки в российском контексте, проанализированы различные модели формирования экосистем. В теоретической части обосновано, что цифровая экосистема представляет собой совокупность финансовых и нефинансовых сервисов компании, способных удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов. Основная часть статьи посвящена анализу кейсов («Сбер», «Яндекс», ВТБ). В заключении подчеркнуто, что опыт российских компаний демонстрирует эффективность цифровых экосистем как инструмента развития партнерских отношений, если сбалансировать интеграцию и сотрудничество.
Цифровая экосистема, партнерские отношения, «Сбер», «Яндекс», ВТБ, открытая модель, закрытая модель, гибридная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/148330698
IDR: 148330698 | УДК: 339.138 | DOI: 10.18137/RNU.V9276.25.02.P.027
Текст научной статьи Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
В последние годы цифровые экосистемы стали одним из ключевых трендов в стратегиях развития крупных компаний [1–6]. Особенно активно этот феномен проявился в России, где лидирующие организации из разных отраслей (банковской, технологической, телекоммуникационной) начали выстраивать собственные экосистемы цифровых сервисов. Под цифровой экосистемой понимается совокупность разнообразных сервисов и платформ, объединенных вокруг единого бренда или группы компаний, обеспечивающих потребителям комплексное решение широкого спектра задач1. Отличительной особенностью экосистемного подхода является стремление компании удовлетворить как можно больше потребностей клиента «под одной крышей», интегрируя финансовые и нефинансовые услуги в единую связную среду.
Российские реалии формирования экосистем во многом следуют мировым тенденциям, заложенным технологическими гигантами (такими как Amazon, Google, Alibaba), но имеют и специфические черты. С одной стороны, наблюдается активная экспансия нефинансовых бизнесов у традиционных игроков (пример – трансформация ПАО «Сбербанк» в экосистему «Сбер» с 2017 года2). С другой стороны, появляются партнерские модели, когда несколько независимых компаний объединяют усилия, создавая сеть взаимовыгодных сервисов (пример – стратегия экосистемы ВТБ через сотрудничество с ретейлером «Магнит», ИТ-компанией «Яндекс» и девелопером ПИК3).
Цель данной статьи – проанализировать, как цифровые экосистемы выступают драйвером развития партнерских отношений, на примере опыта трёх российских компаний: «Сбера», «Яндекса» и ВТБ. Выбор этих кейсов обусловлен их знаковостью: «Сбер»и «Яндекс» – пионеры и конкуренты в создании крупных экосистем в России, а ВТБ – интересный пример альтернативной, открытой модели экосистемы на базе партнерств. В период 2020–2024 гг. каждая из этих компаний прошла через важные этапы экосистемного развития и накопила практический опыт, ценный для осмысления преимуществ и рисков партнерских взаимодействий в цифровой экономике.
Структура статьи включает введение, теоретическую часть с определениями и классификацией моделей экосистем, анализ практических кейсов российских компаний, обсуждение рисков и ограничений, связанных с экосистемным развитием, и заключение с выводами. Такое построение позволяет связать концептуальную базу с реальными бизнес-практиками и оценить результаты внедрения экосистемного подхода для развития партнерских отношений.
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
Цифровые экосистемы: понятие, модели партнерского взаимодействия, подходы к реализации
Понятие «бизнес-экосистема» было введено в научный оборот в 1990-х гг. как метафора, описывающая сообщество организаций, совместно создающих ценность подобно биологической экосистеме. С развитием информационных технологий эта концепция превратилась в конкретную стратегию, особенно с появлением цифровых платформ, объединяющих разных участников (поставщиков и потребителей услуг)1. Банк России определяет цифровые экосистемы как набор финансовых и нефинансовых услуг внутри одной группы, способный закрыть потребности клиента во всех сферах жизни2. Иными словами, экосистема компании стремится предоставить клиенту максимально полный спектр сервисов – от банковских и платежных до торговых, развлекательных, образовательных и т. д. – в едином пространстве, обычно с единой точкой доступа (аккаунтом, идентификатором).
Другие источники подчеркивают свойства экосистемы как адаптивной социотех-нической системы, объединяющей множество акторов (компаний, пользователей, партнеров) на базе цифровой платформы, с присущими ей чертами самоорганизации, масштабируемости и открытости [7]. В бизнес-контексте цифровая экосистема часто создается вокруг крупной органи-зации-«оркестратора», которая задаёт правила взаимодействия и обеспечивает инфраструктуру (например, мобильное приложение, единый логин, платежные сервисы). Участниками экосистемы могут быть как дочерние структуры самой компании, так и сторонние партнеры, предлагающие свои услуги внутри общей системы.
В литературе и бизнес-практике сформировались разные подходы к построению экосистем, которые условно можно классифицировать по степени открытости для внешних партнеров.
Закрытая экосистема – компания стремится самостоятельно охватить все необходимые сервисы, чаще через поглощение или создание дочерних компаний. В такой модели экосистема представляет собой «монолит» внутри контура одного холдинга. Клиенту предлагается набор услуг исключительно от компаний, входящих в эту группу. Преимущество – полный контроль над сервисами и данными о клиенте; недостатки – требуются значительные инвестиции на приобретение и развитие разнопрофильных активов, высокие операционные издержки на интеграцию, риск замедления инноваций. Пример – экосистема «Сбера»: с 2017 года банк инвестировал около $1 млрд (≈150 млрд руб.) в покупку и развитие около 30 компаний и сервисов в разных отраслях (e-commerce,
30 Вестник Российского нового университета30 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
медиа, такси, здравоохранение и др.)1. Все ключевые сервисы, астрономический рост которых подкреплялся ребрендингом под единый бренд «Сбер», с 2020 года интегрированы и контролируются группой Сбербанка.
Открытая экосистема – компания-инициатор не поглощает партнеров, а выстраивает сотрудничество, позволяя внешним организациям предлагать услуги под собственными брендами через ее платформу. Здесь экосистема – это сеть партнеров, объединенных договоренностями об интеграции сервисов и обмене выгодами. Преимущество – разделение затрат и рисков между участниками, более широкий охват за счет привлечения сильных сторонних игроков; недостатки – меньший контроль над качеством и единообразием клиентского опыта, необходимость делиться частью доходов с партнерами. Пример – экосистема ВТБ: вместо поглощения компаний банк предлагает модель Bank-as-a-Service, встроенную в цифровые платформы партнеров. Партнеры (например, ре-тейлер «Магнит», интернет-компания «Яндекс», застройщик ПИК) внедряют финансовые продукты ВТБ в свои приложения под своим брендом. Клиенты партнеров оформляют карты, кредиты, инвестиции «на двигателе» ВТБ, а доходы от этих операций распределяются между ВТБ и партнером. Такая модель требует координации, но экономит средства на приобретение компаний и позволяет каж- дому участнику сосредоточиться на своем профильном бизнесе.
Гибридная экосистема сочетает элементы обеих моделей. Компания может развивать часть сервисов самостоятельно, а в других областях заключать партнерства или создавать совместные предприятия. Например, «Яндекс» многие сервисы развивал внутри (поисковые сервисы, навигация, маркетплейс и т. д.), но в финансовой сфере вместо получения банковской лицензии выбрал партнерство: сначала со «Сбербанком» (совместные проекты «Яндекс Деньги», «Яндекс Маркет» до 2020 года), затем с ВТБ (запуск сервиса инвестиций)2. Гибридный подход позволяет компенсировать недостатки каждого из «чистых» типов – сохранять контроль в ключевых для компании направлениях и привлекать экспертизу партнеров в непрофильных сферах.
В Таблице обобщено сравнение моделей развития экосистем на примере трех рассматриваемых компаний.
Цифровые экосистемы по своей природе предполагают многочисленные точки взаимодействия между участниками.
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
Таблица
Сравнение моделей развития цифровых экосистем компаний
|
Аспект |
«Сбер» (закрытая интегрированная модель) |
«Яндекс» (гибридная модель) |
ВТБ (открытая партнерская модель) |
|
Основной подход |
Вертикальная интеграция: приобретение контрольных долей в сервисах разных отраслей для экосистемы |
Комбинация собственных разработок и совместных предприятий/партнерств в отдельных сферах |
Партнерство white-label: интеграция услуг банка в платформах партнеров вместо поглощений |
|
Примеры сервисов экосистемы |
«СберМегаМаркет» (мар-кетплейс), Okko (видеосервис), «СберЗдоровье» (телемедицина), «СберАв-то», «СберЛогистика» и др. |
«Яндекс Маркет» (e-commerce), «Яндекс Go» (такси и доставки), «Кинопоиск» (видео), «Яндекс Музыка», «Яндекс Облако» и др. |
Magnit Pay (финансовые сервисы в приложении ретейле-ра «Магнит», совместный сервис «Яндекс Инвестиции», сервисы в экосистеме ПИК (ипотека онлайн) |
|
Ключевые партнеры |
Ранее – «Яндекс» (совместные проекты до 2020 года, затем раздел активов); в настоящее время партнёрства минимальны, упор на собственные сервисы |
«Сбербанк» (партнерство 2011–2020 гг., прекращено «разводом» активов); Uber (СП в такси, выкуп доли Uber в 2021 году); ВТБ (партнерство в финтехе с 2019 года). |
«Магнит» (ретейл, совместно выпущен Magnit Pay); «Яндекс» (ИТ, партнер в инвестиционных сервисах); ПИК (девелопмент, партнер в ипотечных продуктах) |
|
Пользовательская база (оценка) |
~100 млн частных клиентов экосистемы, из них 23 млн используют единый аккаунт Sber ID для доступа к 118 сервисам (2021) 1 ; 3,5 млн подписчиков «СберПрайм» (2021) 2 |
Десятки млн пользователей сервисов «Яндекса»; 10 млн подписчиков единой подписки «Яндекс Плюс» (2021) с ожидаемым ростом до ~13 млн к 2024 году 3 |
>2 млн пользователей партнерских сервисов (например, >200 тыс. активных пользователей Magnit Pay в первые месяцы; план привлечь >8 млн новых клиентов к 2025 году за счет партнерской экосистемы 4 |
Источник: составлено автором на основе материалов веб-сайтов.
не рыночных контрагентов, а участников единого холдинга, объединенных общей стратегией. Хотя формально это не партнерство равных, на практике для основателей поглощенных компаний «Сбер» выступал стратегическим партнером, давая доступ к своим ресурсам.
В открытой модели экосистема прямо строится на партнерских соглашениях. ВТБ, не стремясь владеть нематериальными активами партнеров, заключает договоренности: партнер внедряет продукты банка (карты, счета, кредиты) в свой сервис, а банк и партнер делят прибыль от этих операций. Такой подход стимулирует win-win-сотрудничество: партнер удерживает свою аудиторию внутри собственного приложения, предлагая дополнительный сервис (финансовый) без необходимости получать банковскую лицензию, а банк ВТБ получает доступ к новым клиентам партнера практически без затрат на маркетинг. Подобная схема расширяет сеть партнерских связей банка: формируются долгосрочные альянсы банка с компаниями самых разных отраслей (ретейл, девелопмент, интернет-бизнес и т. д.), усиливая межотраслевое взаимодействие.
Гибридные экосистемы предполагают оба формата партнерства – как через капитал (совместные предприятия), так и через контракты. В случае «Яндекса» эволюция отношений с партнерами показательна: сначала многолетний альянс
32 Вестник Российского нового университета32 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
с «Сбербанком» (2009–2019) привел к созданию совместных компаний «Яндекс Деньги» и «Яндекс Маркет», но в 2020 г. партнерство распалось, и активы были разделены («Яндекс Маркет» отошел «Яндексу», а «Яндекс Деньги» – «Сберу»)1. Затем «Яндекс» переключился на сотрудничество с другим банком: в 2019 году для запуска сервиса «Яндекс Инвестиции» в партнеры был привлечен ВТБ как лицензионный брокер2. При этом по другим направлениям (такси, каршеринг, e-commerce) «Яндекс» часто выбирает путь поглощения или выкупа долей – к примеру, в 2021 году «Яндекс» выкупил долю Uber в совместном подразделении и полностью консолидировал бизнес такси. Таким образом, экосистема «Яндекса» гибко комбинирует партнерство и интеграцию в зависимости от задачи.
Кейc 1: Экосистема «Сбера» – интеграция ради масштабирования
«Сбер» (бывший «Сбербанк») – крупнейший банк России – с конца 2010-х гг. взял курс на превращение в универсальную ИТ-компанию. Стратегия «Сбера» заключалась в масштабном инвестировании в новые цифровые бизнесы, близкие и далёкие от традиционного банковского дела, чтобы создать вокруг своего ядра (финансовых услуг) широкий «зонтичный» набор сервисов. К 2020 году «Сбер» сформировал одну из самых масштабных экосистем страны, запустив ребрендинг: название банка сокращено до «Сбер», подчёркивая, что он больше не только банк, и все ключевые сервисы получили бренд «Сбер» («СберМаркет», «СберЗдоровье», «СберАвто» и т. д.)
Основные вехи развития экосистемы «Сбера»:
-
• 2017–2019 гг. – начало экосистемной экспансии. «Сбербанк» приобретает доли в компаниях: «Яндекс Маркет» (совместно с «Яндексом»), медиасервис Okko, электронная коммерция (Goods. ru), начинает проекты в здравоохранении (DocDoc). Формируется видение «“Сбербанк” как технологическая компания». Инвестиции в нефинансовые активы за три года достигли ~$1 млрд.
-
• 2020 год – «развод» с «Яндексом» и дальнейшее наращивание активов. Летом 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» официально объявляют о разделении совместных предприятий: «Сбер» выкупает долю «Яндекса» в платежном сервисе «Яндекс Деньги», а «Яндекс» забирает у банка его долю в «Яндекс Маркете». Это ознаменовало окончание 10-летнего партнерства двух гигантов и начало прямой конкуренции их экосистем. Осенью 2020 года «Сбербанк» проводит презентацию обновленной экосистемы: публике представлены голосовой ассистент «Салют», сервисы доставки и подписка «СберПрайм». Единый вход Sber ID внедряется для всех сервисов экосистемы и партнеров: уже к концу III квартала 2020 года более 13 млн клиентов использовали Sber ID для доступа к более чем 90 сервисам1. Это существенно повышало связность экосистемы: один аккаунт – множество услуг.
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
-
• 2021–2022 гг. – бурный рост и первые показатели. «Сбер» активно развивает e-commerce: запускается собственный маркетплейс «СберМегаМаркет» (на базе купленного Goods.ru)2. Расширяется линейка устройств (смарт-гаджеты) иофлайн-инициатив (например, открытие кафе «ВкусВилл» совместно с партнерами). Финансовые отчеты начинают отдельно показывать эффект экосистемы: по итогам 2020 года выручка нефинансовых бизнесов «Сбера» составила 71,4 млрд руб. (~2% от общей выручки группы). Однако показатель EBITDA этих сервисов был отрицательным (-11,9 млрд руб. в 2020 году), то есть экосистема приносит убыток, скрытый в инвестиционных расходах. Руководство «Сбера» объясняет это стратегическими инвестициями на будущее. К середине 2021 года экосистема охватывает уже 118 сервисов (собственных и партнерских), которыми можно пользоваться через Sber ID; количество пользователей Sber ID достигает 23 млн – за год рост почти вдвое.
-
• 2022–2023 гг. – влияние внешних факторов. Санкции 2022 года заставляют «Сбер» пересмотреть некоторые направления экосистемы: банк продает зарубежные активы, выходит из совместных проектов за рубежом. Тем не менее внутри страны экосистема продолжает развитие, хотя темпы могли замедлиться. К 2024 году, по заявлениям «Сбера», экосистема вышла на операционную безубыточность в ряде направлений, а ее аудиторная база (MAU всех цифровых сервисов) превышает 100 млн пользователей (практически
каждый активный интернет-пользователь в РФ).
Из приведенной хроники видно, что «Сбер» использовал два типа партнерских отношений:
-
1) партнерство через совместные предприятия (далее – СП): пример – альянс с «Яндексом» (2011–2020). На начальном этапе он дал обеим сторонам синергетический эффект: «Яндекс» получил от банка доверие аудитории для своего платежного сервиса, «Сбербанк» – выход на цифровой рынок. Однако с ростом собственных амбиций партнеров такое СП перестало удовлетворять их стратегическим целям, что привело к расформированию партнерства. Этот кейс показал, что партнерство жизненно, пока цели сторон совпадают; в противном случае экосистемы начинают «тянуть одеяло на себя»;
-
2) интеграция поглощенных команд: при покупке «Сбером» стартапов (Okko, DocDoc, Segmento и др.) между компанией и стартапом возникали отношения нового типа – не внешнее партнерство, а внутреннее сотрудничество. Эффективность такого сотрудничества во многом зависит от культуры и менеджмента: «Сбер» активно перестраивал процессы, привлекая новые кадры, внедряя Agile-команды для интеграции финтех-разработчиков, маркетологов и др. внутри группы. Успешная интеграция увеличивала ценность экосистемы для клиентов, которые получали дополнительные услуги с бонусами лояльности (например, программа «СберСпасибо» и подписка «СберПрайм» давали кешбэк и скидки при использовании сразу нескольких сервисов экосистемы).
Вестник Российского нового университетаСерия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
В целом, опыт «Сбера» подтверждает: стратегия агрессивного расширения экосистемы может быстро создать разнообразный продуктовый набор, но требует огромных ресурсов и сопряжена с риском финансовых потерь на старте. Партнерские отношения внутри такой экосистемы носят характер либо отношений «материнской» компании с дочерними (что отличается от классического партнерства равных), либо временных альянсов (как с «Яндексом») на этапе формирования. С течением времени «Сбер» всё больше склоняется к модели полного контроля, минимизируя зависимость от внешних партнеров.
Кейс 2: Экосистема «Яндекса» – от партнерства к самообеспеченности
«Яндекс» – ведущая российская ИТ-компания – эволюционировал в экосистемный бизнес более органично исходя из своей технологической природы. Еще в 2000-е гг. «Яндекс» расширял линейку сервисов (Почта, Новости, Карты, Маркет), создавая вокруг поискового ядра целую среду для пользователей. Однако настоящая экосистема оформилась в 2010-е с приходом тренда на O2O-сервисы (online-to-offline) и совместного потребления.
Этапы развития экосистемы «Яндекса»: • 2011–2019 гг. – альянс со «Сбербанком». Стремясь выйти на финтех-рынок, «Яндекс» в 2012 году продает «Сбербанку» 75 % сервиса «Яндекс Деньги» (электронный кошелек). Партнерство с крупнейшим банком открывает возможность глубокой интеграции: платежи «Сбербанка» появляются в сервисах «Яндекса», а у банка появляется инструмент для работы с интернет-аудиторией. В 2018 году «Яндекс» и «Сбербанк» создают СП «Яндекс Маркет» – амбициозный проект маркетплейса, заявленный как «отечественный аналог Amazon»1. Казалось, модель «банк + IT-гигант» дает идеальный симбиоз для развития новых направлений. Однако к 2019 году возникли разногласия: и «Сбер», и «Яндекс» захотели быть главными оркестраторами экосистем, что в одном альянсе было невозможно. В 2019 году «Яндекс» начал искать другого партнера для финтех-сервиса; им стал ВТБ (о чем ниже). В 2020 году союз «Яндекса» со «Сбером» распадается цивилизованным «разводом» активов.
-
• 2018–2020 гг. – ускорение экосистемного роста. «Яндекс» выходит в сферу такси и транспортных сервисов: покупает Uber Russia (объединив с «Яндекс Такси»), запускает каршеринг, доставку еды («Яндекс Еда») и экспресс-логистику («Яндекс Лавка»). Происходит слияние онлайн-сер-висов с офлайн-услугами, что формирует уникальное торговое предложение – «из одного приложения можно вызвать такси, курьера, заказать продукты». Запускается единая подписка «Яндекс Плюс» (2018), объединяющая медиасервисы (Музыка, «Кинопоиск») и дающая кешбэк баллами за поездки и покупки в сервисах «Яндек-са»2. К 2020 году число подписчиков «Яндекс Плюса» достигает ~5 млн, а к концу 2021 года – 10 млн человек, продемонстри-
- Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: 35 опыт российских компаний 35
ровав двукратный рост за год. Эта подписка стала важным инструментом удержания аудитории внутри экосистемы.
-
• 2020–2021 гг. – реструктуризация отношений и новые партнеры. После выхода «Сбера» из капитала «Яндекса» компания реорганизует финансовое направление: платежный сервис «Яндекс Деньги» переименован в «ЮMoney» и полностью отходит «Сберу», зато «Яндекс» запускает собственный сервис оплаты Yandex Pay (2021). Для направления онлайн-ин-вестиций вместо «Сбера» привлечен банк ВТБ – совместно они интегрируют брокерские услуги ВТБ в платформу «Яндекса» под брендом «Яндекс Инвестиции»1. В то же время «Яндекс» выкупает долю Uber и становится единоличным владельцем бизнесов такси, еды и др., консолидируя контроль. Таким образом, в этот период «Яндекс» комбинирует партнерство с ВТБ (где ему не хватало компетенций/ лицензии) и инвестиции в собственные сервисы (где он силен технологически).
-
• 2022–2024 гг. – консолидация и фокус. «Яндекс» сталкивается с новыми вызовами: изменение структуры собственности (уход иностранных акционеров, перерегистрация основной компании в РФ), влияние санкционной среды (ограничение доступа к отдельным технологиям). Тем не менее экосистема «Яндекса» продолжает работу практически во всех сегментах (поиск, реклама, мобильность, e-commerce, развлечения, облака). Компания сфокусировалась на ключевых направлениях, продав некоторые непрофильные активы (например,
«Яндекс Новости» и «Дзен» – компании VK в 2022 году). Это свидетельствует о том, что даже экосистемы должны определять для себя ядро и периферию бизнеса, оптимизируя партнерские связи.
В отличие от «Сбера» «Яндекс» изначально был более открыт к сотрудничеству, но постепенно наращивал самостоятельность:
-
1) совместные предприятия и альянсы . Партнерство со «Сбербанком» – один из крупнейших в Рунете примеров межкорпоративного альянса – показало плюсы (объединение аудиторий, быстрый старт проектов) и минусы (разные стратегии в долгосрочной перспективе). После распада СП «Яндекс» не прекратил партнерскую практику: например, в 2021 году подписка «Яндекс Плюс» была расширена на сторонние сервисы (онлайн-кинотеатр Amediateka, книжный сервис Bookmate и др.), то есть «Яндекс» привлекает партнеров, чтобы усилить ценность своего продукта для клиентов. Это свидетельствует о гибкости: несмотря на стремление иметь собственные сервисы, компания понимает ценность партнерств для наполнения экосистемы контентом и услугами;
-
2) программа лояльности и кобрендинг . «Яндекс» активно выстраивает партнерские программы через «Плюс»: кобрендинговые банковские карты (совместно с Тинькофф, ВТБ и другими банками) дают бонусы в сервисах «Яндекса». Например, ВТБ в 2025 году начал предлагать держателям своих карт повышенный кешбэк и скидки в сервисах «Яндекса»2.
36 Вестник Российского нового университета36 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
Это взаимовыгодное партнерство: банк получает ценность в виде привлекательности для молодёжной аудитории «Яндекса», а «Яндекс» – приток новых подписчиков «Плюс», которые мотивированы банковскими бонусами;
-
3) интеграция поставщиков услуг . Будучи технологической платформой, «Яндекс» привлекает к экосистеме тысячи мелких партнеров, например, рестораны в «Яндекс Еде», водителей и таксопарки в «Яндекс Такси», магазины на «Яндекс Маркете». Эти партнерские отношения носят характер B2B-платформы: «Яндекс» предоставляет инфраструктуру (приложение, трафик, алгоритмы), а партнеры – конечную услугу. Такая модель скорее партнерская (нет поглощения ресторанов или таксопарков), но «Яндекс» диктует условия (комиссии, стандарты сервиса). Здесь прослеживается экосистемная логика: создание маркетплейса, где множество независимых участников координируются одной платформой.
В результате «Яндекс» выстроил экосистему, где партнерства существуют на нескольких уровнях: стратегические (с крупными корпорациями по отдельным сервисам), контентные (с провайдерами услуг для наполнения платформ) и клиентские (с банками по кобрендингу и программам лояльности). Такой многоуровневый характер партнерских отношений делает экосистему гибкой и устойчивой: выход одного крупного партнера (как «Сбер») хотя и требовал перестройки, но не обрушил всю систему, поскольку были альтернативы и внутренние ресурсы.
Кейс 3: Экосистема ВТБ – партнерская модель без границ отрасли
ВТБ – второй по размеру госбанк РФ – выбрал принципиально иную стратегию создания экосистемы, чем «Сбер». Вместо покупки различных бизнесов ВТБ решил строить экосистему по открытой партнерской модели. Глава банка А. Костин еще в 2021 году публично заявлял, что закрытые (интегрированные) экосистемы требуют слишком много средств и несут риски, тогда как ВТБ сделает ставку на партнерство с другими компаниями. По сути ВТБ позиционировал себя не как монополист услуг, а как финансовый инфраструктурный партнер для ведущих игроков различных секторов.
Реализация открытой экосистемы ВТБ:
-
1) Bank-as-a-Service (BaaS). ВТБ разработал модульную цифровую платформу, позволяющую встраивать банковские сервисы в приложения партнеров через API. Был создан специальный департамент партнерств, задачей которого стало быстрым образом интегрировать продукты ВТБ под брендом партнера1. Например, ретейлер «Магнит» в конце 2020 года совместно с ВТБ запустил сервис Magnit Pay – электронный кошелек и банковскую карту в мобильном приложении «Магнит». Покупатели «Магнита» получили удобный платежный инструмент, привязанный к программе лояльности магазинов. Результаты не заставили себя ждать: за первые месяцы активные пользователи Magnit Pay совершали покупки на 19 % чаще, а средний чек был на 4 % выше, чем у обычных клиентов, – это прямой эффект
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
партнерства на метрики бизнеса. К апрелю 2021 года Magnit Pay выпустил 200 тыс. виртуальных карт, половина из которых использовалась и за пределами магазинов «Магнит», – то есть сервис стал самостоятельным финтех-продуктом, расширив аудиторию ВТБ;
-
2) инвестиции без поглощения. Вместо выкупа контрольных пакетов ВТБ иногда приобретал миноритарные доли в компаниях-партнерах. Например, банк инвестировал в капитал «Магнит» и «ПИК» небольшие суммы, скорее для укрепления альянса, но не стремился к поглощению1. Такой подход сохраняет независимость партнеров и снижает затраты банка;
-
3) расширение партнерской сети. После удачного кейса с «Магнитом» ВТБ начал сотрудничество с «Яндексом»: как отмечалось, с 2019 года они работают над сервисом «Яндекс Инвестиции» (брокер ВТБ для клиентов «Яндекса»), а с 2025 года запущены совместные предложения по кешбэкам для клиентов ВТБ в сервисах «Яндекса» (такси, покупки билетов и др.). В сфере недвижимости партнер ВТБ – ГК ПИК: через цифровую платформу ПИК клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ полностью онлайн. Таким образом, к 2021 году тремя столпами открытой экосистемы ВТБ были ретейл, интернет и девелопмент – каждая с ключевым партнером. В планах банк озвучивал запуск еще примерно трех новых партнерств в различных отраслях2;
-
4) влияние санкций 2022 года . Международные санкции против ВТБ в 2022 году осложнили развитие экосистемы: некоторые проекты притормозились (например, Magnit Pay был вынужден сменить банк-спонсор из-за отключения ВТБ от Visa/Mastercard). Однако банк заявил, что не отказывается от модели, считая ее стратегически верной3. Просто реализация может занять больше времени. А. Костин продолжил критиковать закрытые экосистемы за убыточность и хвалить партнерский подход как более устойчивый.
Преимущества партнерской модели ВТБ для развития отношений:
-
• для партнеров (нефинансовых компаний) – возможность быстро добавить к своему предложению новые услуги (финансовые) без огромных вложений. Это повышает лояльность их клиентов и средний чек (как в случае «Магнита»). Партнеры получают часть доходов от финансовых продуктов, что открывает новый поток выручки;
-
• для ВТБ – экспоненциальное привлечение клиентов. Банк прогнозировал, что через партнерскую модель к 2025 году увеличит свою розничную клиентскую базу более чем на 8 млн. При традиционном подходе столь быстрый рост потребовал бы дорогостоящего маркетинга, открытия офисов и т. п. Здесь же партнеры сами приводят своих клиентов в экосистему банка. Кроме того, расходы на создание сервисов разделяются – каждая сторона несет свою
38 Вестник Российского нового университета38 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
часть. Например, ИТ-интеграцию Magnit Pay выполнил ВТБ, а продвижение сервиса среди покупателей легло на «Магнит»;
-
• ВТБ выступает инициатором стандартов открытой экосистемы на рынке. Этот опыт ценен и для регуляторов: модель, при которой данные о клиенте остаются у партнера, а банк – бэкенд-про-вайдер – потенциально снижает риски монополизации данных, о которых предупреждал ЦБ1. Если такая модель распространится, рынок получит несколько взаимосвязанных экосистем вместо одной «супердоминирующей».
Однако партнерская экосистема не лишена сложностей: необходимо тщательно согласовывать ИТ-системы с разными компаниями, учитывать разные бренды и аудитории, разделять ответственность за обслуживание клиентов. ВТБ пришлось научиться работать в гораздо более быстром темпе, подстраиваясь под бизнес-ритмы ретейла и IT (цикл запуска совместного продукта составляет счита-ные месяцы, что непривычно быстро для банковской сферы). Тем не менее первые результаты (рост транзакций, интерес новых партнеров) подтвердили жизнеспособность подхода.
Риски и ограничения экосистемного подхода
Несмотря на успехи, создание цифровых экосистем несет существенные риски, особенно в контексте партнерских отношений. Рассмотрим ключевые из них, выявленные на основе исследований и опыта российских компаний.
-
1. Регуляторные риски и антимонопольный контроль. Стремительное расшире-
ние экосистем крупных игроков вызывает обеспокоенность регуляторов. Банк России неоднократно указывал на угрозу появления «сверхмощных экосистем», которые могут ограничивать конкуренцию. Глава ЦБ Э. Набиуллина подчеркивала риск ситуации, при которой лидер рынка «замыкает» все больше услуг внутри своего периметра и аккумулирует гигантские объемы данных о клиентах. Это может привести к монополизации сразу в нескольких отраслях и созданию барьеров для более мелких компаний. В 2021 году ЦБ даже выпустил доклад, предлагающий введение специальных мер, например, обязывать доминирующие экосистемы работать по открытой модели (с обеспечением переноса данных пользователей между сервисами). Также обсуждалось введение нового субъекта регулирования – «цифровой платформы/экосистемы» – с отдельными требованиями к капиталу, управлению рисками и раскрытию информации. Для экосистем «Сбера» и «Яндекса» повышенное внимание регуляторов означает потенциальные ограничения в будущем (например, запрет на эксклюзивность тех или иных услуг внутри экосистемы, обязанность предоставлять доступ конкурентам к некоторым данным и пр.). Это новый ландшафт партнерских отношений; возможно, регулятор заставит «закрытые» экосистемы становиться более открытыми вопреки изначальной стратегии.
-
2. Финансовые риски и рентабельность. Экосистемы требуют крупных инвестиций, и не факт, что они быстро окупаются. Пример «Сбера» демонстрирует, что нефинансовые сервисы могут длительное время оставаться убыточными. Компания
-
3. Конфликт интересов между партнерами . В экосистемах, где участвуют несколько крупных игроков, возможны стратегические расхождения. Так случилось со «Сбером» и «Яндексом»: партнеры превратились в конкурентов в борьбе за экосистемное лидерство. Партнерские отношения могут испортиться, если один из участников решит, что способен сам предоставлять аналогичный сервис. Например, не исключено, что через несколько лет «Магнит» мог бы попытаться получить банковскую лицензию и перестать нуждаться в ВТБ, либо наоборот, ВТБ мог бы зайти в розницу напрямую. Для минимизации этого риска партнерские договоры экосистемы стараются заключать на долгосрочной основе и делать выход «дорогим» (финансово или репутационно). Тем не менее высока зависимость от доверия и прозрачности между партнерами: обмен данными, совместный маркетинг – все это требует координации. Разрыв сотрудничества в экосистеме чреват неудобствами для пользователей (как было при перехо-
- де «Яндекс Деньги» к «Сберу» и их ребрендинге: часть пользователей испытала сложности с переводом счетов на новую платформу).
-
4. Риски кибербезопасности и сохранности данных . Интеграция многих сервисов и партнеров означает, что экосистема оперирует колоссальным объемом данных. Утечка или взлом в одной части экосистемы может компрометировать данные и доверие ко всему союзу. Партнеры должны иметь единые высокие стандарты безопасности, но на практике уровни защиты могут различаться. Кроме того, обмен данными между компаниями несет правовые и этические риски (согласие пользователей, риск неправомерного использования персональных данных). Например, банк, делясь данными транзакций с интернет-компанией, должен строго соблюдать законодательство о банковской тайне. Эти вопросы становятся предметом внимания регуляторов и требуют от партнеров экосистем выработки согласованных политик по data governance.
-
5. Операционные и технологические риски . Интеграция систем разных компаний – нетривиальная задача. Возможны сбои на стыке систем, разные стандарты качества обслуживания. Если в экосистеме происходит технический сбой (например, недоступен единый логин или платежный сервис), это затрагивает сразу множество услуг и подрывает лояльность клиентов к экосистеме в целом. Поэтому участники должны инвестировать в надежную инфраструктуру, резервирование и совместное реагирование на инциденты. Также существует риск несовместимости корпоративных культур: команды партнеров могут по-разному подходить к разработке продуктов, что усложняет совместную работу.
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
перекрестно субсидирует их за счет прибыли от базового бизнеса (банковского). Это стратегический риск: затраты могут превысить эффекты, если, например, клиенты не будут активно пользоваться новыми сервисами. Для партнерских экосистем финансовый риск – это разделение прибыли: отдавая часть дохода партнеру, компания-инициатор экосистемы сокращает свою маржу. Если экономическая модель партнерства просчитана неверно, проект может быть невыгодным ни одному из участников. Поэтому важно тщательно прорабатывать бизнес-модель каждого сотрудничества. ВТБ, например, проводил пилотные запуски и наблюдал метрики (активность пользователей, рост чека), прежде чем масштабировать партнерский проект.
Несмотря на перечисленные риски, заметим, что многие из них можно смяг-
40 Вестник Российского нового университета40 Серия «Человек и общество», выпуск 2 за 2025 год
чить грамотным управлением и регулированием. Для этого компании все чаще заключают подробные соглашения о партнерстве, прописывая права на данные, метрики успеха, процедуры разделения затрат и прибыли, условия выхода из проекта. Кроме того, рынок и государство вырабатывают новые нормы. Так, в России обсуждается законодательство об экосистемах, а Центробанк в 2021–2022 гг. выпустил рекомендации, призванные обеспечить баланс между инновациями и конкуренцией. Партнерские отношения в рамках экосистем становятся более формализованными и осознанными.
Заключение
Как показали результаты исследования, цифровые экосистемы стали важным драйвером развития партнерских отношений в российском бизнесе, предоставляя новые форматы сотрудничества между компаниями различных отраслей. Опыт «Сбера», «Яндекса» и ВТБ в 2020–2024 гг. демонстрирует, что при правильной стратегии экосистема может значительно расширить возможности всех участников:
-
• «Сбер» на примере своей экосистемы подтвердил, что даже закрытая модель предполагает определенную степень партнерства, будь то этап совместных предприятий (как с «Яндексом») или интеграция стартапов в единый контур. «Сберу» удалось за короткий срок создать широкую экосистему, повысив ценность своих услуг для клиентов (единая лояльность, сквозные сервисы). Партнерские отношения внутри его экосистемы трансформировались из внешних (альянс с «Яндексом») во внутренние (между подразделениями группы). Главное достижение – банк укрепил связь с клиентом: теперь около 60 % актив-
- ных клиентов «Сбера» используют более одного сервиса экосистемы, что увеличивает их удержание;
-
• «Яндекс», пройдя через взлеты и падения партнерских проектов, сформировал гибкую экосистему, которая сочетает собственные инновации и привлечение партнеров там, где это усиливает предложение. Яркий показатель – успех «Яндекс Плюс», объединяющего сервисы разных типов и даже сторонние (например, бонусы от банков-партнеров). Это доказывает, что экосистемная ценность растет, когда партнеры дополняют друг друга: пользователи готовы платить за подписку, дающую им выгоды сразу в нескольких компаниях. Для «Яндекса» партнерства стали способом быстро проникнуть в финансовый сектор (через ВТБ), не отвлекаясь от своей core-компетенции – технологий и данных;
-
• ВТБ своим открытым подходом показал альтернативный путь: не создавать конкурентов другим отраслевым лидерам, а наоборот, стать их союзником. Такая стратегия позволила банку выстроить конструктивные связи с крупными игроками рынка (ретейлом, интернет-компаниями), чего традиционно банки не делали. Несмотря на внешние сложности, партнерская экосистема ВТБ продолжает развиваться, и ее результаты (миллионы совместных клиентов, рост активности) могут в перспективе изменить ландшафт финансовых услуг, сделав их более встроенными в привычные нефинансовые сервисы.
Обобщая, можно выделить несколько ключевых выводов.
Во-первых, цифровая экосистема усиливает партнерства, создавая совместную ценность, недоступную в одиночку: обмен данными позволяет лучше знать клиента, комплексное предложение повышает его удовлетворенность, а разделение ресурсов снижает порог запуска новых услуг.
Цифровые экосистемы как драйвер партнерских отношений: опыт российских компаний
Во-вторых, модели экосистем могут различаться, и выбор модели должен учитывать способности и цели компании: у кого-то хватает ресурсов на интеграцию (как у «Сбера»), а кому-то выгоднее разделить усилия (как ВТБ).
В-третьих, управление экосистемой – это управление партнерствами: успех зависит от того, насколько эффективно выстроены отношения, договоренности и технологическая интеграция между участниками.
Для практиков, планирующих развивать экосистемы, опыт рассмотренных компаний указывает на необходимость баланса. Чрезмерно закрытая экосистема грозит изоляцией и критикой регуляторов, а чрезмерно открытая – потерей контроля над качеством. Оптимальным может стать гибридный подход: стратегические направления держать под своим управлением, а смежные – развивать через партнерство. Кроме того, важ- на прозрачность и доверие: все участники экосистемы должны ясно понимать правила игры и получать справедливую долю выгоды, иначе партнерство долго не просуществует.
В дальнейшем исследовании данной темы перспективно оценить количественно влияние экосистем на финансовые показатели и конкурентоспособность компаний, а также изучить восприятие экосистем клиентами (насколько они ценят «единое окно» сервисов и сохраняют лояльность бренду). Также актуально мониторить регуляторные изменения: возможное введение новых норм может серьезно влиять на модели партнерских отношений в экосистемах. Тем не менее уже сейчас очевидно, что цифровые экосистемы стали неотъемлемой частью бизнес-ландшафта России, и умение создавать и поддерживать партнерства внутри них становится важным фактором лидерства на рынке.