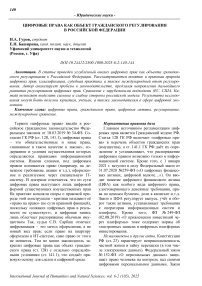Цифровые права как объект гражданского регулирования в Российской Федерации
Автор: Гуров Н.А., Баширина Е.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проведён углублённый анализ цифровых прав как объекта гражданского регулирования в Российской Федерации. Рассматриваются понятие и правовая природа цифровых прав, классификация, судебная практика, а также международный опыт регулирования. Автор анализирует пробелы в законодательстве, предлагая направления дальнейшего развития регулирования цифровых прав. Сравнение с зарубежными подходами (ЕС, США, Китай) позволяет выделить сильные и слабые стороны российской модели. Результаты исследования могут быть полезны юристам, учёным, а также законодателям в сфере цифровой экономики.
Цифровые права, гражданское право, цифровые активы, регулирование, международное сравнение
Короткий адрес: https://sciup.org/170210636
IDR: 170210636 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-140-144
Текст научной статьи Цифровые права как объект гражданского регулирования в Российской Федерации
Термин «цифровые права» введён в российское гражданское законодательство Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ. Согласно ГК РФ (ст. 128, 141.1), цифровые права – это обязательственные и иные права, «названные в таком качестве в законе», содержание и условия осуществления которых определяются правилами информационной системы. Иными словами, под цифровым правом понимается право (например, на денежное требование, акцию и т.д.), оформленное и реализуемое через специальную IT-систему. В доктрине отмечается, что по сути цифровые права выступают лишь цифровой формой существующих имущественных прав На практике возникли споры о правовой природе этой конструкции – критики называют её «право на право» (по сути правовой фикцией), поскольку «никаких цифровых прав в реальности не существует», и цифровая запись лишь облегчает распоряжение обычным имуществом Так, судья С.В. Сарбаш отмечал: цифровизация – это метод оформления, а не новый вид прав; если право на квартиру оформлено в ИТ-системе, само право от этого не меняется. Тем не менее законодатель закрепил цифровые права как объект гражданского права (ст. 128) с отдельно определёнными условиями (ст. 141.1), что создаёт правовую основу для сделок в цифровой среде.
Нормативная правовая база
Главным источником регламентации цифровых прав является Гражданский кодекс РФ. Статья 128 ГК РФ включает «цифровые права» в перечень объектов гражданских прав (имущества), а ст. 141.1 ГК РФ даёт их определение и устанавливает, что распоряжение цифровым правом возможно только в информационной системе. Кроме того, с 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ («О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…»). Он вводит понятие цифрового финансового актива (ЦФА) как особого вида цифрового права, удостоверяющего денежные требования, права по ценным бумагам, доли в капитале и т.д. Закон о ЦФА регулирует выпуск, учёт и оборот таких активов, устанавливает требования к операторам информационных систем и платформ. Кроме того, ФЗ № 249-ФЗ (02.08.2019) «О привлечении инвестиций через платформы» тоже содержит нормы об электронных записях и цифровых платформах инвестирования.
Немаловажны и другие акты. Конституция РФ (ст. 23) гарантирует неприкосновенность частной жизни и тайну переписки (в том числе электронных данных). Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» защищает право человека на контроль над своими цифровыми персональными данными. Закон
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 63-ФЗ «Об электронной подписи» регулируют правовой режим информационных систем и доверительных услуг в ИТ-сфере. Судебная практика ориентируется также на методологию ГК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по применению норм гражданского права к спорам в цифровой сфере (например, о признании электронных документов доказательствами). Таким образом, нормативная база складывается из положений ГК, специализированных ФЗ об информационных отношениях и ЦФА, а также общих принципов гражданского права.
Классификация цифровых прав
Права на цифровые активы (ЦФА, токены). Под цифровыми активами понимаются прежде всего цифровые финансовые активы (ЦФА) – правоотношения, удостоверяемые записями в распределённом реестре (блок-чейн или другом реестре). Закон № 259-ФЗ трактует ЦФА как «цифровые права», включающие денежные требования, права по ценным бумагам, доли в капитале непубличных АО и т.д. Таким образом, ЦФА – это не новая категория имущества, а оцифрованные виды существующих имущественных прав (акции, облигации, долги). Выпуск и учёт ЦФА осуществляется в информационной системе на блокчейне. Кроме того, в юридической литературе выделяют утилитарные цифровые права – к примеру, корпоративные права в форме блокчейн-записей, а также различные токены (security и utility токены), которые могут служить правовым оформлением доступа к товарам или услугам. По сути, это цифровая форма обязательств или собственности.
Авторские и смежные права в цифровой среде. Гражданский кодекс (раздел IV) защищает интеллектуальную собственность, включая результаты интеллектуальной деятельности в электронной форме. Авторские права на произведения (литературные, аудио-, видео, программные и др.) сохраняют силу в цифровой среде: например, их использование в ин-тернет-сетях или через информационные ресурсы регулируется теми же нормами (ст. 1228-1235 ГК РФ) с учётом дополнительных правил (например, коллективные управления правами, цифровые лицензии). Смежные права (исполнителей, фонограмм) также применимы к их цифровому распространению (стриминг, скачивание). Несмотря на высокую степень защиты, массовое нарушение интеллектуальной собственности в интернете (пиратство, нелегальный стриминг) остаётся проблемой, требующей усиления контроля за цифровыми копиями и DRM-технологиями.
Цифровая идентичность и персональные данные. Под цифровой идентичностью понимается совокупность электронных сведений о личности (учётные записи, биометрические данные и т.д.), подтверждающих её личность в сети. Российское законодательство пока не даёт готового определения «цифровой идентичности», но есть система электронного правительства (ЕСИА) и закон о цифровой подписи (№63-ФЗ), обеспечивающие идентификацию граждан при онлайн-взаимодействии. При этом персональные данные – как часть цифровой идентичности – надёжно защищены: Конституция РФ гарантирует тайну частной жизни, а ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает правила сбора и обработки личной информации. Таким образом, права субъектов на охрану своих данных и идентичность имеют чёткую нормативную основу.
Иные виды цифровых прав (NFT, DAO и пр.). В современной цифровой экономике появились новые феномены. NFT (невзаимозаменяемые токены) не имеют отдельного статуса в российском праве, но обычно рассматриваются как цифровой «сертификат» владения определённым цифровым артефактом (изображением, видеороликом и т.д.). С точки зрения закона, сам NFT лишь доказывает факт владения токеном, а права на содержимое остаются на базе авторского права. DAO (децентрализованные автономные организации) – виртуальные сообщества соучредителей и участников, функционирующие через смарт-контракты. В России формально не урегулированы (АС РФ требует признания руководителя при совершении юридических действий). За рубежом, напр., в США штат Вайоминг с 2021 г. разрешил оформлять DAO как DAO-LLC – юридическое лицо по законам штата. Пока российское право не даёт специального правового статуса DAO, их деятельность может трактоваться через существующие структуры (общества, фонды и т.п.) или доводиться согласовывать с судебной практикой.
Правоприменительная и судебная практика
Российские суды при разрешении споров по цифровым правам постепенно формируют практику. В ряде дел криптовалюты (цифровые валюты) уже признаются имуществом. Так, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 (дело № А40-124668/2017) биткоин и эфириум были прямо отнесены к «иному имуществу» по ст. 128 ГК РФ. Судья отметил, что в ГК нет закрытого перечня объектов и по аналогии «иное имущество» охватывает криптовалюту, что позволило включить её в конкурсную массу должника. Это решение (отклонённое в первой инстанции) стало первым прецедентом признания криптоактивов самостоятельным имуществом. В дальнейшем арбитражные суды в банкротных делах неоднократно принимали подобную позицию.
С 2021 г. законодательство косвенно закрепило имущественный статус цифровых валют: ГК РФ дополнился понятием «цифровая валюта» (ФЗ-259) и в целях исполнительного производства и финансового мониторинга ЦВ фактически приравнены к имуществу. Практика показывает, что чаще всего цифровые валюта признаются имуществом (особенно в банкротствах и при взыскании убытков), хотя в некоторых случаях (например, уголовных делах о хищении) встречаются замечания, что изъятие криптовалюты затруднено технически. Также внимание судов привлек вопрос доказывания цифровых записей: доказательства из блокчейна рассматриваются как электронные документы, допустимые при наличии экспертных заключений.
Кроме криптовалют, в практике появляются дела о цифровых правах в других областях. Например, уже были случаи признания цифровых записей об акциях и долях (учтённых на платформе) юрлицам эквивалентными ценным бумагам. В сфере авторских прав возникают иски о защите контента в интернете. Как правило, суды подходят к этим спорам, опираясь на общие нормы ГК РФ, ГПК и АПК РФ, а также на международные соглашения (например, по авторскому праву). Общий вывод судебной практики: цифровая экономика требует широкой интерпретации норм о собственности и обязательствах, и российские суды склоняются к тому, чтобы не оставлять цифровые активы вне правового поля (включать их в имущественные обороты).
Международное регулирование (ЕС, США, Китай)
Европейский Союз выдвигает наиболее проактивные инициативы. Так, в апреле 2023 года Европарламент одобрил Регламент (ЕС) 2023/1114 («MiCA»), устанавливающий единые правила для криптоактивов в Евросоюзе с декабря 2024 г. Европейское право также строго защищает персональные данные (GDPR) и вводит унифицированную цифровую идентификацию (регламенты eIDAS, план выпуска «цифрового кошелька»). Евросоюз фокусируется на едином подходе: криптовалюты не запрещены, но их эмиссия и биржевая торговля регулируются детально, а права граждан гарантированы на уровне законов и директив.
США подходят иначе: федерального всеобъемлющего закона о криптоактивах нет. Различные агентства (SEC, CFTC, IRS, FinCEN) применяют к токенам существующие нормы о ценных бумагах, товарах и налогообложении. Это приводит к фрагментированному регулированию. В ряде штатов приняты собственные законы: например, штат Вайоминг с 2021 г. признал DAO полноценным юридическим лицом (DAO-LLC), а ранее ввёл понятие «цифровых долей» и простимулировал открытие криптобирж. В целом подход США ориентирован на защиту инвесторов и борьбу с мошенничеством (SEC активно преследует злоупотребления с ICO), но отсутствие единого закона означает, что во многом правовой статус токенов определяется судами по аналогии с существующими институтами.
Китай демонстрирует противоположную модель. Государство категорически ограничивает частный оборот криптовалют: Народный банк Китая запретил фиаты цифровых валют (запрещены транзакции в крипте) и объявил расчёты криптовалютами вне закона. По китайским нормам «токены» нельзя приобретать за криптовалюту, а выпуск NFT осуществляется только на регулируемых национальных площадках. Параллельно Китай развивает собственную цифровую валюту ЦБ (цифровой юань) и планирует запустить государственный NFT-маркетплейс (через дочерние структуры Alibaba/Tencent). Таким об- разом, в Китае цифровая экономика остаётся под строгим государственным контролем (живущему бизнесу предлагается работать в рамках государственных платформ).
В сумме: ЕС движется к максимальной либерализации с сильным надзором, США – к дифференцированным отраслевым подходам, Китай – к строгому контролю и вытеснению частных активов. Эти модели задают тренды, с которыми соотносится российское регулирование (например, РФ примерно следовала европейской модели узаконения ЦФА, но пока не приняла комплексных мер как MiCA).
Заключение
Гражданско-правовое регулирование цифровых прав в России является относительно новым и пока не вполне завершённым. С одной стороны, приняты фундаментальные нормы (ГК РФ с определением цифровых прав, законы о ЦФА, персональных данных, информации), и суды уже признают цифровые активы имуществом. Это создаёт базу для легитимного оборота электронных сделок. С другой – сохраняются проблемы и несоответствия. Некоторые явления (криптовалюта, NFT, DAO) формально «не названы» в законах, что порождает «правовой вакуум» и критику (термины «цифроизоляционизм», «право на право»). Как отмечено экспертами, отсутствие ясного статуса криптовалюты влечёт правовую неопределённость, а надёжность цифровых сделок требует доработки норм о доказательствах и ответственности.
Перспективы развития в этой области связаны с дальнейшей доработкой законодательства и практики. В ближайшие годы можно ожидать уточнения понятий (возможна корректировка ст. 141.1 ГК РФ), принятия отдельных законов о криптовалютах/цифровом рубле, а также адаптации правоприменения под реалии блокчейн-проектов. Успех регулирования будет зависеть от гибкости системы права: насколько удастся сохранять принципы автономии воли и имущественной инициативы при обязательном учёте технологий. С учётом мировых трендов (MiCA, CBDC, защита данных) российское гражданское право в будущем, по мнению юристов, должно эволюционировать в сторону интегрированного подхода к цифровой собственности и ответственности. В любом случае уже сегодня можно констатировать: цифровые права действительно стали полноправными объектами гражданского оборота в РФ, хотя и требуют дополнительного уточнения механизмов своей реализации и защиты.