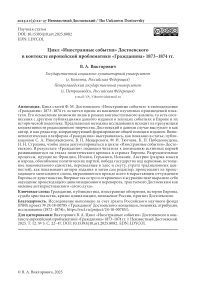Цикл «Иностранные события» Достоевского в контексте европейской проблематики «Гражданина» 1873–1874 гг.
Автор: Викторович В.А.
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цикл статей Ф. М. Достоевского «Иностранные события» в еженедельнике «Гражданин» 1873–1874 гг. остается одним из наименее изученных произведений писателя. Его осмысление возможно лишь в рамках контекстуального анализа, то есть соотнесения с другими публикациями данного издания о текущих событиях в Европе и их исторической подоплеке. Предлагаемая методика исследования исходит из презумпции коллективности редакционного творчества. Достоевский в данном случае выступает и как автор, и как редактор, координирующий формирование общей позиции издания. Внешнеполитическая платформа «Гражданина» выстраивалась, как показано в статье, публикациями С. А. Николаевского, В. П. Мещерского, Ф. И. Тютчева, К. П. Победоносцева, Н. Н. Страхова, чтобы затем аккумулироваться в цикле «Иностранные события» Достоевского. В результате «Гражданин» подводил читателя к пониманию истинных корней развивающегося на глазах политического кризиса в странах Европы. Разрушительные процессы, идущие во Франции, Италии, Германии, Испании, Австрии (разрыв власти и народа, обособление политических партий, победа государства над церковью, истощение национального единства, переходящее в хаос и смуту, утрата традиционных ценностей), как показывают авторы издания и затем сам редактор, проистекают из происходящего ментального слома, выразившегося прежде всего в нарастающем отчуждении Европы от христианства. Впервые так остро и откровенно в журналистике выразило себя ощущение происходящего цивилизационного переворота, трактуемого Достоевским как явление антихристианского «злого духа».
Гражданин, публицистика, иностранные обозрения, история Европы, судьба христианства, кризис цивилизации, положение России, прогноз Достоевского
Короткий адрес: https://sciup.org/147252195
IDR: 147252195 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8082
Текст научной статьи Цикл «Иностранные события» Достоевского в контексте европейской проблематики «Гражданина» 1873–1874 гг.
О сенью 1873 г. редактор еженедельника «Гражданин» Ф. М. Достоевский, оставив рубрику «Дневник Писателя» (он вернется к ней лишь единожды в декабре), взял на себя многотрудное, но чрезвычайно насущное для издания да и самого писателя обязательство — вести новую рубрику «Иностранные события». Всего начиная с 17 сентября 1873 г. по 7 января 1874 г. он опубликовал 12 обозрений за подписью «Д.». На сегодняшний день это одно из наименее изученных произведений Достоевского — можно назвать всего несколько работ, посвященных данной теме: [Drouilly], [Рабинович], [Отливанчик, 2008, 2018], [Викторович, 2019: 189–212], [Захаров, 2021].
В дальнейшем исследовании, как нам представляется, следует исходить из того обстоятельства, что Достоевский в «Гражданине» явился на поприще внешнеполитической публицистики уже после того, как поработал над формированием направления издания в качестве его редактора с конца декабря 1872 г. (первый номер за его подписью вышел 1 января 1873 г.), то есть около девяти месяцев. Печатаемые им авторские материалы оказались в конечном счете подводкой к его собственным выступлениям, поэтому столь важно выявить и проанализировать сложившийся в еженедельнике контекст, формируемый «коллективным» редакционным творчеством (см.: [Захаров, 2013], [Захарова], [Зохраб], [Викторович, 2015]).
Первые четыре месяца редакторства Достоевского рубрику, которая была тогда названа «Политическое обозрѣнiе» (вместо «Политических писем» в 1872 г.), вел С. А. Николаевский, скрывавшийся за подписью С. Н. Он стал обозревателем «Гражданина» 6 ноября 1872 г. Как сообщал при этом издатель В. П. Мещерский, новый сотрудник «сдѣлалъ намъ честь, взявъ на себя, писать два раза въ мѣсяцъ, политическiя письма о главныхъ событiяхъ въ Европѣ»1. По утверждению А. В. Отливанчика, «умеренно-консервативные взгляды С. Николаевского, вполне определенно выраженные в его статьях, хорошо укладывались в идейно-политическую платформу "Гражданина"» [Отливанчик, 2018: 23]. Это утверждение требует некоторого уточнения. Выступления Николаевского «хорошо укладывались» в платформу «Гражданина» 1872 г., но в следующем году при новом редакторе они чем-то не устраивали последнего, иначе трудно объяснить выход данного сотрудника из редакции после 23 апреля 1873 г. (дата последнего «Политического обозрения») и его последующее возвращение при редакторе В. Ф. Пуцыковиче. Один факт наводит на размышления. В перечне «Счет статей замечательных, находящихся в редакции», составленном Достоевским в феврале 1873 г., упоминается «Николаевского разбор "Панславизм и греки"» [Д30; т. 21: 259–260]. Очевидно, имелась в виду рецензия на статью К. Н. Леонтьева
«Панславизм и греки» (Русский Вестник. 1873. № 2). Этот «разбор» так и не был опубликован в «Гражданине»: то ли забраковал редактор, то ли автор забрал его, не согласившись с предложенной правкой. Речь в самой статье Леонтьева шла о последствиях так называемой греко-болгарской распри: когда болгарская церковь получила свою независимость (автокефалию) не по церковным канонам, а из рук турецкого султана, Вселенский патриарх не признал самостоятельности болгарской церкви и предал ее отлучению. «Гражданин» в своих публикациях2 однозначно встал на сторону Вселенского патриарха, осудив болгар за то, что они национальный интерес поставили выше первородства православия, значение которого в мире тем самым ослаблялось. Николаевский в целом совпадал с этой позицией, но с некоторым уточнением:
«Непрiязнь между двумя заинтересованными въ этомъ дѣлѣ сторонами достигла высшей степени; запальчивая ярость, первоначально возникшая изъ среды болгаръ, — нынѣ перешла и къ грекамъ. Преемникъ Григорiя VI на вселенскомъ престолѣ не наслѣдовалъ ни умѣренности, ни кротости, ни высокой мудрости своего благочестиваго предшественника. Онъ прибѣгъ безъ надобности и уже во всякомъ случаѣ безъ пользы къ самымъ крутымъ мѣрамъ — вообще столь противнымъ духу христiанскаго ученiя — и пора-зилъ гоненiемъ всѣхъ тѣхъ, кто не оказалъ сочувствiя къ такимъ его мѣрамъ» 3 .
Обозреватель в данном случае попытался примирить позицию «Гражданина» с противоположной точкой зрения (напр., «Православного Обозрения»), которую вскоре поддержал М. Н. Катков в передовой статье «Московских Ведомостей» (1873. № 32. 5 февраля), сочувственной болгарам в их стремлении к своей автокефальной церкви. В «Гражданине» эта точка зрения опровергалась4. К. Н. Леонтьев, в свою очередь, также занял промежуточную позицию, правда, с уклоном в пользу болгар:
«Клеветъ, гнѣва, жалобъ пристрастныхъ, съ обѣихъ сторонъ потоки! Однако, умъ безпристрастный, неподкупленный страстями живой борьбы, можетъ, мнѣ кажется, становясь поперемѣнно и искренно то на мѣсто Болгаръ, то на мѣсто Грековъ, понять и тѣхъ и другихъ и, соглашаясь, конечно, что Болгары несравненно правѣе, объяснить и даже извинить въ нѣкоторомъ смыслѣ отчаянiе Грековъ. Богатыя населенныя страны ускользаютъ изъ рукъ ихъ племени, гордаго, энергическаго, умнаго и трудолюбиваго. Эллинизацiя Бал-канскаго полуострова, "Великая Идея" становится невозможностью…»5.
Можно предположить, что подобная «беспристрастность» устраивала С. А. Николаевского, но не Т. И. Филиппова, определявшего на тот момент позицию «Гражданина». Достоевский, очевидно, ее разделял, если в качестве редактора решился на полемику с Катковым, но заметим, что впоследствии он и сам отошел от категоричности этой позиции (но не от ее сущности), когда в мартовском выпуске «Дневника Писателя» 1877 г. заявил о вине обеих сторон конфликта и тем самым о его еще более грозной подоплеке:
«Столь недавняя <…> греко-болгарская церковная распря, под видом церковной, была, конечно, лишь национальною, а для будущего как бы неким пророчеством. Вселенский патриарх, порицая ослушание болгар и отлучая их и самовольно выбранного ими экзарха от церкви, выставлял на вид, что в деле веры нельзя жертвовать уставами церкви и послушанием церковным "новому и пагубному принципу национальности". Между тем сам же он, будучи греком и произнося это отлучение болгарам, без сомнения, служил тому же самому принципу национальности, но только в пользу греков против славян» [Д30; т. 25: 70–71].
Другое дело, что Николаевский, скорее всего, не заметил в статье Леонтьева той сверхидеи, на которой сосредоточился Достоевский в письме М. П. Погодину 26 февраля 1873 г.:
«Эта статья меня даже поразила. Если не читали, то прочтите и напишите мне хоть два слова о ней. Хочу писать статью по ее поводу. Меня поразил особенно последний вывод о том, что собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть с социализмом.) Страннее всего, что "Р<усский> вестник" это у себя напечатал, правда с оговоркою» [Д30; т. 29, кн. 1: 263–264] 6 .
Кое в чем весьма существенном Леонтьев оказывался предшественником Достоевского, как, например, в таком предположении:
«Неудержимое расширенiе Россiи въ Азiи, — расширенiе которое не только не ослабѣваетъ, но напротивъ усиливается послѣ всякаго урона или разо-чарованiя нашего на Западѣ, — также будетъ всегда требовать сильнаго сосредоточенiя не жизни и быта какъ во Францiи, а лишь государственной, высшей политической власти…»7.
В этом последнем соображении Леонтьев смыкался с непреклонным государственником К. П. Победоносцевым, на время заменившим (так получилось) ушедшего Николаевского на поприще комментатора-зарубежника «Гражданина» при редакторстве Достоевского.
Смене вех предшествовал еще один редакционный инцидент. В заключении «Политического обозрения» в «Гражданине» 1 января 1873 г. Николаевский сообщал о смерти Наполеона III и обещал дать оценку этой политической фигуре в следующем обозрении8. Однако высказаться ему не дали: в следующем номере еженедельника заявленную миссию выполняли стихотворение Ф. И. Тютчева «Наполеонъ III» и предшествующая ему статья В. П. Мещерского под тем же заглавием. Поэт в немногих словах выразил парадокс третьего Наполеона:
«Нo правды Божьей, неземной,
Неотразимый проповѣдникъ,
Ты мiру доказалъ, кàкъ шатко все, въ чемъ нѣтъ
Той правды внутренней! И доказалъ на дѣлѣ:
Ты, волновавшiй мiръ безъ цѣли,
Всѣ эти двадцать бурныхъ лѣтъ, —
Ты много, много лжи посѣялъ <…>
Оторопѣвшiй мiръ игрой своей смутя,
Какъ неразумное дитя,
Ты предалъ долгому шатанью!» 9 .
Заявленный поэтом парадокс в том же номере «Гражданина» интерпретировал В. П. Мещерский с точки зрения собственной стержневой темы государственного и общественного «порядка»:
«…нетрудно было этому странному царствованiю Наполеона III явиться тѣмъ, чѣмъ оно было: осуществленiемъ какого то политическаго хаоса, какой то беззастѣнчивой комедiи, какою то внутреннею безсодержательностью, прикрытою внѣшнимъ блескомъ и подпираемою полицейскими сержантами и пятисоттысячною армiею.
Но въ этой армiи, какъ и въ управленiи цѣлой страны, какъ и въ цѣломъ политическомъ строѣ Имперiи Наполеона III, не было того внутренняго порядка, который происходитъ отъ подчиненiя извѣстной ясно сознаваемой мысли. Наполеонъ III смутно думалъ, что все держалось какими то идеями, а сподвижники его знали, что идей никакихъ нѣтъ, а все держится деньгами. <…>
И странное совпаденiе! Наполеонъ III какъ императоръ былъ именно тѣмъ, чѣмъ была его Францiя: въ немъ недоставало внутренняго смысла всего того чтó дѣлалось и чтó дѣлалъ онъ самъ своимъ именемъ» 10 .
Происходящее во Франции, выражавшей тогда некую квинтэссенцию европеизма, — одна из ведущих тем «Гражданина» Достоевского. Он и сам в своих обзорах в эпицентр европейских событий поставит судьбу «гениальной нации», которая изначально играла первенствующую роль в продвижении «живой силы» католицизма, а затем, напротив, провозгласила революционную «мечту о справедливости, основанной единственно на за-конахъ разума», что означало «полнѣйшую независимость <…> отъ религiи, а вмѣстѣ съ ней и отъ всякихъ преданiй»11. В итоге «предводительница человѣчества принуждена была сознаться послѣ послѣднихъ несчастiй сво-ихъ, устами лучшихъ своихъ представителей, что начало живой жизни утрачено ею чуть не совсѣмъ, источникъ изсякъ и изсохъ»12.
Французским страницам Достоевского в «Гражданине» предшествовали две статьи, осмыслявшие так называемый монархический переворот 12 (24) мая 1873 г., сделавший президентом республики маршала Мак-Магона.
Первая из этих статей «Францiя» ( Гр . 1873. № 21. 21 мая) вызывает особый интерес: она поставила проблему (очевидно, уже после ухода Николаевского) в том духе, в котором в дальнейшем французская тема будет развиваться в «Гражданине» под редакцией Достоевского. Тем более загадочным является то обстоятельство, что данная статья была анонимной. Были попытки приписать ее В. П. Мещерскому13. Однако Мещерский, как и Победоносцев, и Николаевский, свое авторство устанавливал хотя бы псевдонимами (кроме, разумеется, общередакционных, анонимных по определению рубрик: «Петербургское обозрение», «Ералаш» и сменившая его «Последняя страничка»), а в данном случае это было бы особенно необходимо в силу принципиальной важности публикации. Тем самым подчеркивалось, что статья выражает общее мнение редакции. В таком случае участие в ней редактора представляется весьма вероятным. Кроме того, мы находим существенные совпадения с последующими обозрениями Достоевского.
Вот зачин редакционной статьи:
«Опять успокоившiеся было умы въ Европѣ встревожились и, съ безпокой-ствомъ слѣдя за событiями истекающей недѣли въ Версали и въ Парижѣ, задаютъ себѣ вопросъ: чтó будетъ ?
Странное явленiе. Трудно было съ бóльшимъ спокойствiемъ совершиться такому перевороту въ государствѣ, а между тѣмъ никогда еще этотъ вопросъ "чтò будетъ?" не представлялся относительно Францiи столь загадочнымъ, какъ теперь…» 14 .
Сравним с зачином статьи Достоевского «Иностранные события» 17 сентября, открывавшей цикл:
«Во Францiи, теперь, почти у всѣхъ, конечно, один только вопросъ: что именно сейчасъ-же, теперь-же, можетъ случиться? Тутъ ужь не до отдален-наго будущаго, не до окончательнаго устройства; текущiя событiя дошли до высшей точки своего напряженiя» 15 .
Совпадает и прогноз на дальнейшие действия победившей правой стороны Национального собрания.
В редакционной статье:
«…теперь, когда цѣль, изъ за которой три ненавидящiя другъ друга партiи соединились, достигнута, наступаетъ невозможность дальнѣйшаго объ-единенiя <…>: правая сторона раздѣлится на партiи и фракцiи <…>. Правая сторона предчувствовала это, быть можетъ, лучше другихъ, и вотъ почему, не задаваясь прозрѣванiемъ событiй далеко впереди, она поторопилась преждевременно закрыть себѣ глаза на хаосъ, ее окружающiй, избранiемъ въ президенты Макъ-Магона, который, за недостаткомъ способностей, имѣетъ за себя военное имя и опору 200 тысячъ штыковъ. Такимъ образомъ на часъ они калифы, но чтó будетъ послѣ — никто не знаетъ. <…> ума хватило на переворотъ, но хватитъ ли его дальше — вотъ вопросъ, надъ которымъ позволительно задуматься» 16 .
Ср. в обозрении Достоевского 17 сентября 1873 г.:
«Разумѣется, разрѣшенiе необходимо будетъ насильственное. Никакое соглашенiе невозможно, что уже доказало соглашенiе двадцать четвертаго мая при низверженiи Тьера. За насильственное разрѣшенiе принялись уже давно, но теперь, при новомъ и уже слишкомъ настоятельномъ повторенiи вопроса: что дѣлать? — дѣятельность всѣхъ партiй, и разумѣется все враждебныхъ одна другой, должна, конечно, въ десять разъ усилиться. <…> Они слишкомъ хорошо знали что каждый будетъ дѣйствовать лишь для своей партiи и, мо-жетъ быть сейчасъ-же, завтра-же если понадобится, вцѣпится другъ другу въ волосы»17.
Язвительная фраза редакционной статьи, характеризующая Мак-Ма-гона: «за недостаткомъ способностей», — получит уже у Достоевского продолжение:
«…всѣ эти прекрасные эпитеты, — "честный, храбрый" и т. д. появлялись какъ бы для того только чтобъ избѣжать слова "умный"» 18 .
И, наконец, самое главное: редакционная статья акцентировала нравственный смысл происшедшего — поставив его выше политического — на чем в «Гражданине» настаивал именно Достоевский:
«А между тѣмъ извѣстiе объ этомъ событiи въ Европѣ произвело повсюду одно и то же дѣйствiе: всеобщее негодованie на виновниковъ переворота и глубокое сочувствiе къ главѣ упавшаго правительства. Въ этомъ дѣйствiи сказалось первое впечатлѣнiе Европы, которое, какъ говоритъ Шекспиръ, есть всегда лучшее: инстинктивно, такъ сказать, Европа въ этомъ переворотѣ почувствовала три вещи: неблагодарность французскаго собранiя къ Тьеру, спасшему Францiю, непрочность совершившагося переворота; и въ третьихъ, наконецъ, неловкое положенiе для себя, то есть тотъ malaise politique, который ей такъ знакомъ, и который она испытываетъ всякiй разъ, когда Францiя берется вновь за свои революцiонныя шалости.
Это первое впечатлѣнiе Европы — есть утѣшительный фактъ для всего человѣчества. Европа забыла или, вѣрнѣе, не захотѣла вспомнить въ эту минуту, что всякая побѣда консерваторовъ всегда выгоднѣе для нея торжества радикаловъ, неизвѣстно гдѣ останавливающагося, чтобы прежде всего обвинить виновниковъ переворота въ неблагодарности къ личности президента-старца, который — кромѣ благодарности Францiи, заслужилъ уваженiе всего образованнаго мipа. Фактъ этотъ внесется въ анналы исторiи человѣчества, какъ доказательство, что и въ XIX вѣкѣ люди всѣхъ партiй въ Европѣ умѣли въ извѣстныя минуты становиться подъ одно знамя тонкаго сердечнаго чувства, чтобы клеймить приговоромъ осужденiя такое политическое дѣйствiе, которое оскорбляетъ не интересы, но чувства образованнаго человѣчества» 19 .
Тройная апелляция к «человечеству» выдает никак не Мещерского, в ней слышится голос самого редактора.
Отметим в редакционной статье также юмористические ремарки, свойственные Достоевскому:
«И вотъ пока правительство Тьера изнемогало отъ усилiй управленiя, и подготовляло проектъ окончательной конституцiи Францiи какъ республики, правая сторона собранiя, то есть половина его, въ свою очередь изнемогала отъ усилiй къ подготовленiю нынѣшняго переворота» 20 ; «Предсѣдатель собранiя Бюффе отправляется къ нему съ просьбою собранiя, застаетъ Макъ-Магона въ кабинетѣ у Тьера; первый протестуетъ во имя преданности своей къ Тьеру и неспособности къ политическимъ дѣламъ; ему отвѣчаютъ, что особенныхъ способностей на президен<т>ство французской республики ненужно. Макъ-Магонъ убѣждается этими доводами, и черезъ два часа послѣ этого вся Европа узнаетъ о переворотѣ во Францiи» 21 .
Замечая присутствие Достоевского в данной публикации, нельзя полностью отвергнуть и участие Мещерского. Резонно допустить, что в этом случае мы имеем еще один прецедент их своеобразного соавторства, когда редактор, по его признанию, «переправлял, живого места не оставил» [Д30; т. 29, кн. 1: 285]. Таким нам представляется первый подступ Достоевского к внешнеполитической публицистике «Гражданина», побудивший его вскоре к собственным обозрениям.
Вторая публикация — краткая, но внушительная статья К. П. Победоносцева «Францiя (Взглядъ на теперешнее ея состоянiе)». Еще один публицист, в свою очередь, проанализировал последствия майского переворота. Главный урок постигшего Францию политического кризиса, утверждал Победоносцев, «учитъ что первое и самое существенное благо для народа — прочность царствующей династiи и соединенная съ нею твердость закон-наго правительства», поскольку на этом основном благе «держатся всѣ прочiя»22. Такова принципиальная для ученого и публициста-государственника идея, которую он последовательно проводит и в других своих выступлениях в «Гражданине». Когда утрачена «тайна законной власти», начинается безвластие, анархия, которая во Франции приняла форму нескончаемой «борьбы партiй»23. При этом Победоносцев делает важное наблюдение, от которого затем будет отправляться Достоевский:
«Замѣчательнѣе всего что въ этой политической игрѣ, которую ведутъ между собою партiи, хотя все дѣлается именемъ народа, до народа, въ сущности, никому дѣла нѣтъ» 24 .
Суждение Победоносцева, само по себе фундаментальное и определявшее политический горизонт «Гражданина», в значительной степени дезавуировало доводы С. А. Николаевского в пользу одной партии — орлеанистов25. В этом редактор особенно резко разошелся с прежним обозревателем:
«Орлеанская династiя <…> почти менѣе всѣхъ партiй, терзающихъ теперь Францiю, имѣетъ шансовъ къ престолу. Эта династiя, самая благодѣтельная для Францiи въ этомъ столѣтiи, давшая ей 18 блаженныхъ лѣтъ, тѣмъ неменѣе нестерпимо ей надоѣла, и Францiя ни за что теперь на нее не согласится. Къ тому же она вполнѣ отжила свой вѣкъ и требованiя страны теперь совершенно иныя. Орлеанская династiя, съ ее мягкостью въ правленiи и разум-нымъ либерализмомъ, не въ мѣрку теперешнимъ событiямъ» 26 .
Установки на «мягкость» и «разумный либерализм» были присущи и самому Николаевскому. Между тем «мерка теперешним событиям», по Достоевскому, была уже другая, и ей больше соответствовали последовательная «твердость» консерватизма Победоносцева.
Развивая его тезис о происходящем во Франции отделении политики от национальных интересов27, Достоевский в обзорах «Иностранные события», рисуя портреты французских парламентских партий и их лидеров, акцентирует в них показной патриотизм и скрытое за ним подлинное презрение к судьбе отечества. Сама по себе партийность оказывалась лишь формой политического и иного своекорыстия. Власть — что монархическая, что республиканская — потеряла доверие народа и вовсе не была озабочена «мнением народным». Такова мысль, заявленная уже в первом выпуске «Иностранных событий» Достоевского и разрабатываемая в последующих. Занятая им позиция позволит обозревателю позднее (22 октября 1873 г.) вскрыть действительный смысл нашумевшего процесса над маршалом Ба-зеном: он изменил отечеству «изъ за интересовъ своей партiи», но судят его теперь такие же «люди партiи»28 — иного в сфере большой политики, увы, не наблюдается. Возвращаясь к недавнему краху Наполеона III, Достоевский видит его причину прежде всего в том, что тот ради сохранения своей власти «принужденъ былъ начинать множество дѣянiй, клонившихся не къ счастью Францiи, а единственно лишь къ упроченiю дома Наполеоновъ»29.
«…Страна, разъединенная нравственно»30, — таков диагноз Достоевского, заставлявший русского читателя задуматься о перспективах не одной бедной Франции. В словах Достоевского слышится отзвук евангельской истины: «…всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25). В обозрении 22 октября 1873 г. Достоевский констатировал: «Вотъ язва Францiи: потеря общей идеи единенiя, полное ея отсутствiе!»31
Утрата «общей идеи единения», о чем настойчиво пишет «Гражданин», постигла также несчастную Испанию, для которой когда-то, как и для Франции, таковой идеей был католицизм: здесь политическая борьба прямо перешла в кровавую междоусобицу. Победоносцев основную причину увидел как в утрате церковью своего авторитета, так и в разложении власти («царствующая династiя выродилась»)32, в результате чего пробудился дремавший ранее хаос, которым неминуемо воспользовались левые радикалы.
Достоевский эту животрепещущую тему продолжил в своих обозрениях, прямо выразив их подтекст в черновой записи:
«Я не удивлюсь, что самые жгучие вопросы смахивают на испанские дела, об России как об Испании» [Д30; т. 21: 256].
О том, что Италию и Германию, недавно достигших государственного единства, разъедает противостояние светской власти и католической церкви, неоднократно писал в своих обозрениях С. А. Николаевский. Говоря о событиях в Италии, основную долю вины он возлагает на папу, которого одолевает «печаль объ утратѣ свѣтской власти», его речи «огорчаютъ и еще болѣе отчуждаютъ отъ папы сердца добрыхъ и искренно набожныхъ католиковъ»33. Касаясь борьбы с католицизмом в Германии, обозреватель «Гражданина» не становится однозначно на сторону имперской власти, замечая ее слабые места:
«Между прочимъ они (ультрамонтаны. — В. В .) стращаютъ образованный мiръ тѣмъ, что массы, лишенныя религiознаго воспитанiя и руководства духовенствомъ, останутся на жертву новымъ ученiямъ — проповѣдующимъ безвѣрiе и безнравственность. Съ этой стороны есть дѣйствительно нѣкоторая для запада опасность — ибо чтó ни говори — римско-католическая церковь была великимъ разсадникомъ дисциплины; а дисциплина въ свою очередь не оставалась безъ влiянiя — часто благодѣтельнаго — и на массы. Но мы не полагаемъ, чтобы отстраненiе нѣкоторыхъ вкравшихся въ католицизмъ зло-употребленiй и въ особенности притязанiй на вceмipнoe преобладанiе — чтобы это устраненiе въ чемъ нибудъ поколебало негибнущую власть христiан-ства, которое по духу своему можетъ вполнѣ ужиться съ прогрессомъ и направлять человѣчество къ цѣлямъ, Провидѣнiемъ для него предопредѣлен-нымъ отъ начала вѣковъ» 34 .
Утешительная концовка приведенного пассажа весьма характерна для Николаевского, остерегающегося обострений.
Совсем другой настрой привнес в «Гражданин» пришедший на смену Николаевскому Победоносцев. Он пишет целую серию статей о событиях Культуркампфа в Германии35, когда столкнулись в непримиримой схватке набирающая обороты прусская государственная машина и стремящаяся к земному владычеству римско-католическая церковь. Непримиримую, жесткую позицию занимает и русский публицист: он признает правомерность имперских забот Бисмарка, обоснованных идеей объединения нации, однако, по его глубокому убеждению, великий политик перешел черту, за которой сегодняшнее могущество грозит обернуться завтрашним крушением:
«Какъ бы ни была громадна власть государственная, она утверждается не на иномъ чемъ какъ на единствѣ духовнаго самосознанiя между народомъ и правительствомъ, на вѣрѣ народной: власть подкапывается съ той минуты, какъ начинается раздвоенiе этого, на вѣрѣ основаннаго сознанiя. Народъ, въ единенiи съ государствомъ, много можетъ понести тягостей, много можетъ уступить и отдать государственной власти. Одного только государственная власть не въ правѣ требовать, одного не отдадутъ — того, въ чемъ каждая вѣрующая душа по отдѣльности, и всѣ вмѣстѣ полагаютъ основанiе духов-наго бытiя своего и связываютъ себя съ вѣчностью. Есть такiя глубины, до которыхъ государственная власть не можетъ и не должна касаться, чтобъ не возмутить коренныхъ источниковъ вѣрованiя въ душѣ у всѣхъ и каждаго» 36 .
Бисмарк видел в католической церкви лишь политического противника (к чему она сама давала немалый повод) и пренебрег тем, что церковь по природе своей — «союзъ богоучрежденный», таящийся «въ глубинѣ на-роднаго сознанiя» и служащий «глубочайшей потребности души человѣчес-кой — потребности вѣрованiя и единенiя въ вѣрѣ»37. Бисмарк, как утверждает Победоносцев, исходил не только из политических интересов — в основании его концепции лежала захватившая западный мир либеральная идея разделения церкви и государства. Эта идея представляется Победоносцеву продолжением более широкого позитивистского представления «жизнь сама по себѣ, а вѣра сама по себѣ», что для него равносильно «рѣши-тельному уничтоженiю бытiя»38. Выступления Победоносцева, в отличие от предшествовавших им обзоров Николаевского, отличает глубина постижения происходящих в западной цивилизации процессов на ментальном уровне, а именно неуклонное падение христианских ценностей. К Победоносцеву, безусловно, присоединился и Достоевский, следующим образом рекомендуя читателям одну из статей указанного цикла:
«…статья нашего сотрудника касается именно того главнаго, основнаго пункта, на которомъ въ наше время какъ бы колеблется вся политическая будущность Европы. <…> Князь Бисмаркъ, конечно не вполнѣ про то вѣдая, какъ бы подаетъ <…> руку свою новымъ людямъ , атеистамъ и соцiалистамъ» 39 .
Европейский опыт Победоносцев примерял к России. Либеральные идеи захватывали русскую интеллигенцию, выражавшую опасения насчет «соблазнительного» влияния церкви на школу. Ответ Победоносцева был по существу: «узаконенiе принципа равнодушiя церкви къ народному обра-зованiю», если таковое произойдет, не будет учитывать особенности «государства, гдѣ жизнь народа въ теченiе вѣковъ — была нераздѣльна отъ жизни церкви, и гдѣ по настоящее время духъ своей жизни народъ черпаетъ все-таки только въ церкви»40. А вот и последний довод публициста:
«Да и наконецъ: если признавать нашу церковь тѣмъ чѣмъ создалъ ее Христосъ, можно ли себѣ представить эту церковь въ видѣ учрежденiя которому не должно быть дѣла до того: какъ учатся въ государствѣ дѣти ?» 41
Внешнеполитическая публицистика «Гражданина», таким образом, смыкалась с одной из главных тем издания: роль церкви в жизни русского общества. Об этом неоднократно писал и сам редактор, порой вставляя свои реплики в статьи других авторов, как, например, вот этот замечательный пассаж по поводу деятельности Общества любителей духовного просвещения:
«…наше православiе есть главное и, можетъ быть, даже единственное право на всемiрное значенiе Россiи; наша церковь есть спасенiе обществъ, а мы вѣдь ея вовсе почти не знаемъ и до послѣдняго времени даже не хотѣли знать» 42 .
2 июля 1873 г. Победоносцев публикует в «Гражданине» корреспонденцию «Изъ Лондона»43, а вскоре, с 30 июля до 24 сентября (№№ 31–36, 39), печатает серию статей под общим названием «Русскiе листки изъ-за границы». Рассказывая про общественную и частную жизнь англичан, автор цикла наметил своеобразный британский поворот во внешнеполитической тематике «Гражданина»44. Отчасти дело было в личных симпатиях самого Победоносцева, который хорошо знал английский язык и английскую литературу, любил летом отдыхать на острове Уайт и в британском исполнении был готов смириться со столь ненавидимым им парламентаризмом, поскольку здесь он был санкционирован историческим преданием и народными нравами45. Английский конституционно-монархический строй служил положительным примером для ученого-публициста. Так, он признавал укорененность суда присяжных заседателей в Англии и подчеркивал неготовность к нему России, где он внедрялся «сверху» в соответствии с судебной реформой 1864 г. С подачи Победоносцева вырабатывал свою точку зрения и редактор «Гражданина»:
«Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть "жалостливость" приговора, и там принимается во внимание "заедающая среда" (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностию (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли» [Д30; т. 21: 14].
Британия при этом оставалась одним из главнейших недругов России, о чем «Гражданин» не переставал писать, и непонимание британцами России вкупе с отечественным низкопоклонством иногда довольно едко высмеивалось46. Впрочем, на тот момент установилось некое равновесие политических интересов: так, «Гражданин» утверждал, что успех похода русской армии в Хиву зависел отчасти от «предварительного соглашения» с Англией47. При этом автор присоединился к тонкому замечанию английского журналиста:
«Одна англiйская газета говоритъ не безъ остроумiя слѣдующее: "ничто такъ не способно возбуждать опасенiя въ народѣ къ войнѣ, какъ увѣренiя, и часто повторяемыя увѣренiя, въ мирѣ"; слова эти сказаны были по поводу неоднократно сдѣланныхъ въ газетахъ, органахъ англiйскаго правительства, заявле-нiй объ отличныхъ отношенiяхъ его къ кабинету нашему. Эти остроумныя слова чрезвычайно вѣрны: кого ни спроси, всякiй у насъ увѣряетъ другаго и самого себя въ мирѣ, а между тѣмъ всякiй чувствуетъ, что мы въ настроенiи далеко не мирномъ» 48 .
Попытка своеобразного британского поворота «Гражданина» была предопределена еще одним историческим обстоятельством: царская семья породнилась с королевской, когда единственная дочь Александра II Мария вышла замуж за второго сына королевы Великобритании Виктории герцога Эдинбургского Альфреда. Этот брак породил надежды на улучшение отношений России и Великобритании (как впоследствии оказалось, напрасные):
«…да позволено намъ будетъ выразить прiятную надежду что предстоящее бракосочетанiе на столько заставитъ англiйское и наше общество покороче познакомиться между собою, что вполнѣ разсѣетъ въ первомъ накопившiяся издавна предубѣжденiя противъ нашей нацiональной политики…» 49 .
Для участия в процедуре бракосочетания в Петербург прибыл известный англиканский проповедник А. Стенли, что дало повод «Гражданину» поставить вопрос о возможном сближении протестантской и православной церквей50.
Подробно рассматривая роль протестантизма, Победоносцев отдавал должное его историческому значению: «Пуританскiй духъ создалъ нынѣш-нюю Британiю»51. Краеугольный для христианина-мирянина вопрос о соотношении «дел» и «веры» здесь решается просто и однозначно: «дела» и есть «вера».
«Это практическое основанiе протестантизма нигдѣ не выражается такъ явственно, какъ въ церкви англиканской, и въ духѣ религiознаго воззрѣнiя англiйской нацiи. Оно и согласуется съ характеромъ нацiи, выработавшимся въ ея исторiи — направлять мысль и дѣятельность повсюду къ практиче-скимъ цѣлямъ, стойко и неуклонно добиваться успѣха и во всемъ избирать тѣ пути и способы, которые ближе и вѣрнѣе ведутъ къ успѣху. <…> Религiя безспорно освящаетъ нравственное начало дѣятельности; учитъ какъ жить и дѣйствовать на землѣ, требуетъ трудолюбiя, честности, правды. Нельзя не согласиться съ этимъ положенiемъ. Но отъ этого положенiя практическiй взглядъ на религiю прямо переходитъ къ вопросу: что же за религiя у того кто живетъ въ праздности, нечестенъ и лживъ, развратенъ, безпорядоченъ, не умѣетъ поддержать себя? Такой человѣкъ язычникъ, а не христiанинъ; лишь тотъ христiанинъ, кто живетъ по закону и являетъ въ себѣ силу закона христiанскаго.
Разсужденiе, повидимому, логически правильное. Но у кого не шевелится въ душѣ вопросъ: какъ же быть на свѣтѣ и въ церкви мытарямъ и блудни-цамъ, тѣмъ которые, по слову Христову, предваряютъ нерѣдко церковныхъ праведниковъ въ Царствiи Божiемъ?
Разумѣется, странно было бы предполагать что такой взглядъ на религiю составляетъ положительную формулу церковнаго вѣрованiя въ Англiи. Такая формула была бы явнымъ отрицанiемъ евангельскаго ученiя. Но таковъ именно духъ религiознаго воззрѣнiя у самыхъ добросовѣстныхъ и ревност-ныхъ представителей такъ называемаго "нацiональнаго церковнаго учрежде-нiя", отстаивающихъ и восхваляющихъ англиканскую церковь какъ первую твердыню государства — bulwark of State — и какъ основное выраженiе духа нацiональнаго. Въ англiйской литературѣ, какъ въ духовной, такъ и свѣтской, это воззрѣнiе выражается иногда въ весьма рѣзкихъ формахъ, въ такихъ сло-вахъ, передъ коими останавливается съ недоумѣнiемъ, похожимъ на ужасъ, мысль русскаго читателя» 52 .
Победоносцев далее цитирует новейшую книгу английского правоведа Дж. Стифена (Stephen J. F. Liberty, egality, fraternity. London, 1873)53, утверждающего, что Бог сотворил мир « для рода людей благоразумныхъ, твердыхъ и смѣлыхъ духомъ , и устойчивыхъ; для тѣхъ которые сами не безумны и не трусливы, и не очень жалуютъ безумныхъ и трусовъ, знаютъ твердо чтò имъ нужно, и съ рѣшимостью употребляютъ всѣ законныя средства чтобы того достигнуть »54.
Поневоле напрашивалось сравнение с русским человеком, «который искони называетъ преступника несчастнымъ »55.
«Русскiй человѣкъ не менѣе другаго знаетъ что жить должно по вѣрѣ , и чув-ствуетъ какъ мало сходна съ вѣрою жизнь его; но существо и цѣль вѣры своей полагаетъ онъ не въ практической жизни, а въ душевномъ спасенiи, и любовiю церковнаго союза ищетъ обнять всѣхъ — отъ живущаго по вѣрѣ праведника до того разбойника, который, не смотря на дѣла, прощенъ былъ въ одну минуту» 56 .
По описаниям «Гражданина», общественная ситуация в Англии была более стабильной, нежели на континенте, однако и здесь от внимательного взгляда Победоносцева не ускользнули процессы, общие с Европой. Так, автор замечает, что введенная протестантизмом « свобода личнаго мнѣнiя о вѣрѣ » привела к распадению господствующей церкви на «разные толки и ученiя»57, некоторые из которых Победоносцев колоритно описывает (ир-вингиты, гласситы, методисты). В этом контексте естественным было появление пошедших еще дальше «послѣдователей такъ называемой натуральной, философской религiи» — деистов и унитариев58, а затем, в крайней точке распада, — в стремлении «построить для человѣчества — вѣру безъ Бога »59. Нельзя не отметить, что главный посыл этой «религии человечества» Достоевский вскоре воспроизведет в романе «Подросток» в футурологическом видении Версилова (см.: [Д30; т. 13: 378–379]), а затем в «Дневнике
Писателя» 1876 г., сославшись на «одного наблюдателя», — не названного по имени того же К. П. Победоносцева [Д30; т. 22: 96–98].
Перспектива совершающегося гуманитарного «прогресса», говорит автор «Гражданина», весьма плачевна:
«Наши реформаторы, воспитавшись сами въ кругу тѣхъ представленiй, по-нятiй и ощущенiй, которыя отрицаютъ, не въ состоянiи представить себѣ ту страшную пустоту, которую окажетъ нравственный мiръ, когда эти понятiя будутъ изъ него изгнаны» 60 .
Пророчества Победоносцева не могли не отозваться в размышлениях Достоевского о судьбах современной цивилизации. Цивилисту Победоносцеву особенно страшно было предположить, что произойдет с обществом и государством, когда испарится в сознании людей представление, что «у каждаго человѣка есть живая душа, единая и безсмертная, слѣдовательно имѣющая безусловное бытiе »: «во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь?»61. Автор, впрочем, надеется, что эти «новые горизонты» отрицания безусловных фундаментальных ценностей «никогда не откроются для человѣчества, или, по крайней мѣрѣ, откроются не для всѣхъ и не надолго»62. Его надежду питает уверенность, что русская православная церковь, несмотря на собственные нестроения, сохранит значение «всенародной церкви»63 и устоит под натиском деструктивных веяний эпохи.
О текущих событиях в Европе писала практически вся русская периодика, однако аналитический аппарат внешнеполитической журналистики явно не удовлетворял редакцию «Гражданина»:
«…наши журналы, въ силу своихъ предубѣжденiй, очень дурно знакомятъ насъ съ жизнью Европы, что мы знаемъ изъ этой жизни только отрывочные факты, а общей, осмысленной картины нигдѣ не находимъ…» 64 .
Именно «осмысленную картину» и пытались нарисовать авторы «Гражданина», и завершением этого процесса стала внешнеполитическая публицистика самого редактора. Наряду с Победоносцевым и упреждая Достоевского, важнейшие штрихи были внесены в публикациях Н. Н. Страхова, как в его цикле «Замѣтки о текущей литературѣ», так и в статьях о современных мыслителях Европы (Штраус, Ренан, Милль, Конт). В рамках настоящей статьи мы не имеем возможности развернуть эту тему подробно, оставляя ее для последующей публикации. Приведем лишь ключевое высказывание, прямо ведущее к циклу «Иностранные события» Достоевского:
«Соcтоянiе Запада въ настоящее время неясно только очень поверхност-нымъ людямъ; но всякiй, кто искренно и серьозно обращался или обращается къ Европѣ за нравственнымъ руководствомъ, кто дѣйствительно ищетъ въ ней для своихъ мыслей и дѣйствiй руководящаго начала — всякiй знаетъ, что Западъ тяжко боленъ, что онъ не исполненъ надеждъ, какъ когда-то было, а весь потрясенъ внутреннимъ страхомъ, ищетъ и не находитъ выхода изъ противорѣчiй, зародившихся въ его жизни» 65 .
Подводя итоги французским событиям, Достоевский заявлял, что трон, даже и «окруженный послушными штыками», не устоит, если власть не сможет предложить народу «новое слово, которое дѣйствительно имѣло бы силу вступить въ бой съ злымъ духомъ цѣлаго столѣтiя несогласiй, анархiи и безцѣльныхъ французскихъ революцiй»66. Редактор «Гражданина» здесь вышел на тему, начатую Победоносцевым, но двинулся гораздо дальше в своих прогнозах: «злой духъ» социальной революции, подкрепленный страстной «антихристiанской вѣрой», видится ему столь могучим, что победа его неотвратима. На стороне новой веры «люди самой высшей интеллигенцiи», но решит дело тот факт, что «вѣруютъ въ нее тоже всѣ "малые и сирые", трудящiеся и обремененные, уставшiе ожидать царства Христова; всѣ отверженные отъ благъ земныхъ, всѣ неимущiе»67.
Достоевский полагает, что именно «на французской почвѣ суждено совершиться первымъ битвамъ грядущаго страшнаго новаго общества про-тивъ стараго порядка вещей»:
«Тутъ и пророка Божiя мало, не только графа Шамборскаго. И пророкъ избiенъ будетъ. Новый духъ придетъ, новое общество несомнѣнно восторжествуетъ — какъ единственное несущее новую, положительную идею, какъ единственный предназначенный всей Европѣ исходъ. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнiя. Мiръ спасется уже послѣ посѣщенiя его злымъ духомъ… А злой духъ близко: наши дѣти можетъ быть узрятъ его…» 68 .
Спасительные «начала» редактор-обозреватель предполагает, согласно с Победоносцевым и Страховым, в христианской закваске европейской цивилизации. Устраняя эти начала, предавая их во имя «новой веры» в обез-боженную социальную справедливость, цивилизация саморазрушается, даже не замечая того. Об этом своем убеждении Достоевский писал Страхову еще из Европы 18 (30) мая 1871 г.:
«Нравственное основание общества (взятое из позитивизма) не только не дает результатов, но и не может само определить себя, путается в желаниях и в идеалах. Напишут много книг, а главное упустят: на Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и — как это ясно!» [Д30; т. 29, кн. 1: 214].
О духовно-религиозных корнях современных европейских неурядиц69 Достоевский заговаривает уже в первых двух выпусках «Иностранных событий». В третьем выпуске (1 октября 1873 г.), как уже говорилось, в связи с параллельной публикацией Победоносцева редактор «Гражданина» заявляет данную тему как «главный пункт», от которого зависит «будущность Европы»:
«Тутъ не только борьба римскаго католичества и римской идеи всемiрнаго владычества, которая умереть не хочетъ, не можетъ и умретъ развѣ съ кончиною мiра, — но, въ зародышѣ, и борьба вѣры съ атеизмомъ…» 70 .
И уже в последнем выпуске «Иностранных событий» 7 января 1874 г. (после чего рубрика перейдет в ведение будущего редактора В. Ф. Пуцыко-вича) Достоевский настаивает на том, что по существу вопрос теперь стоит о «жизни и смерти самой религiи въ Европѣ»71.
Многое из того, что формулировалось в «Иностранных событиях» Достоевского, получит затем развитие на европейских страницах его «Дневника Писателя» 1876–1881 гг. Редактор «Гражданина» развернул в историософско-прогностическую плоскость то направление политической мысли, что было задано движением еженедельника от Тютчева и Мещерского до Победоносцева и Страхова. Впервые так остро и без околичностей выразило себя прозрение набирающего силу цивилизационного переворота. Все последующие выступления Достоевского как писателя и публициста будут исходить из этого проникновения в суть происходящих событий.