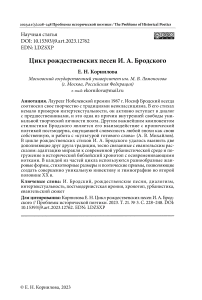Цикл рождественских песен И. А. Бродского
Автор: Корнилова Е.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Лауреат Нобелевской премии 1987 г. Иосиф Бродский всегда соотносил свое творчество с традициями неоклассицизма. В его стихах немало примеров интертекстуальности, он активно вступает в диалог с предшественниками, и это одна из причин внутренней свободы уникальной творческой личности поэта. Другим важнейшим компонентом стилистики Бродского является его взаимодействие с иронической поэтикой постмодерна, ощущавшей словесность любой эпохи как свою собственную, и работа с «культурой готового слова» (А. В. Михайлов). В цикле рождественских стихов И. А. Бродского удалось выявить две дополняющие друг друга традиции, тесно связанные с евангельским рассказом: адаптацию миракля к современной урбанистической среде и погружение в исторический библейский хронотоп с осовременивающими нотками. В каждой из частей цикла используются разнообразные жанровые формы, стихотворные размеры и поэтические приемы, позволяющие создать совершенно уникальную инвективу и гимнографию во второй половине ХХ в.
И. бродский, рождественские песни, диалогизм, интертекстуальность, постмодернистская ирония, хронотоп, урбанистика, евангельский сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/147241442
IDR: 147241442 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12762
Текст научной статьи Цикл рождественских песен И. А. Бродского
В 1961 г. 25-тилетний поэт Иосиф Бродский, живший в Ленинграде, решил «на каждое Рождество писать по стихотворению»1.
Он делал это до 1972 г., когда ему настоятельно рекомендовали покинуть СССР, и вернулся к рождественской теме только спустя семь лет после переезда в другую страну. По разным подсчетам им было написано от 19 до 23 стихотворений на широко известный евангельский сюжет, каждый раз интерпретированный в связи с личным опытом поэта и перипетиями его творческой судьбы. В контексте европейской литературы и живописи, многократно обращаясь к тематике Рождества, Бродский решает сложную творческую задачу оригинального прочтения широко растиражированного традиционного сюжета и создает неповторимый, только ему свойственный мир евангельского миракля. Иконографический канон также играет свою роль в образах его поэтических видений.
В эмиграции Иосиф Бродский преподавал в Мичиганском университет е в качестве «приглашенного поэта» ( poet-in-residence ). Там он исследовал и преподавал по преимуществу стихосложение, а затем занимал профессорские должности в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, где студенты под его руководством изучали историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха. Поэтому его комментарии к собственным стихам могут рассматриваться как литературоведческие работы [Бродский]. Среди научных исследований творчества поэта укажем ряд авторов, разрабатывавших рождественскую тематику у Бродского, и сборники статей: И. Ю. Абелинскене [Абелинскене], А. Н. Воробьева [Воробьева], Н. Н. Казанский [Казанский], И. Ковалева [Ковалева], И. А. Романов [Романов], А. Ю. Сергеева-Клятис, О. А. Лекманов [Сергеева-Клятис, Лекманов], сборник статей [Поэтика Бродского] и большой сборник трудов РХГА [И. А. Бродский: pro et contra], а также значимые для нас работы по теории стиха М. Л. Гаспарова [Гаспаров].
Рождественский цикл
Интертекстуальная игра с традициями и смыслами — характерная черта литературы второй половины ХХ в. И творчество И. А. Бродского здесь не исключение, скорее — наиболее показательный образец. В его лирике трудно найти стихотворение, в котором отсутствовала бы скрытая, а чаще прямая цитата, аллюзия, литературный образ или сюжетный ход, использованный по преимуществу в ироническом ключе. Игровой, иронический контекст часто придает особый смыл трагическим строкам и мыслям. И чем ближе к закату — разворачивается экзистенциальная драма — сочетание крайнего пессимизма и саркастической усмешки, вплоть до оксюморонного шутовства: «веселый мертвец».
Возможность диалога с текстами предшествующей культуры, который обогащает авторский текст за счет расширения смыслов, была подмечена М. М. Бахтиным (см.: [Бахтин, 1975, 1986, 1990]): «… всякое слово всякого другого человека, сказанное или написанное на своем <…> или на любом другом языке, то есть всякое не мое слово », включенное в художественный текст, есть явление диалогическое (курсив мой. — Е. К .) [Бахтин, 1986: 367]. Ключевым для философии Бахтина становится понятие «Другой» («не-Я») — противоположность самого себя, поскольку личность обретает себя и познает свое «Я» как таковое только в соотнесенности с «Другим». Бродский часто обращается к целой группе текстов предшествующей литературы, отечественной или англоязычной, которые практически не связаны между собой и взаимодействуют только в стихотворных текстах поэта, который по своему произволу соединяет Гомера с Оденом, Джона Донна с Пастернаком, греческую мифологию с Евангелием и т. д. Возникающее многоголосие, сложная перекличка чужих голосов беспредельно расширяли границы авторского текста.
Диалог формирует позитивное содержание свободы личности, так как он отражает полифонический слух по отношению к окружающему миру. Начало культурного диалога формируется на основе самопознания и соотнесенности своего «Я» с «Другим», и только позднее приходит осознание межкультурных контактов. Как указывает В. С. Библер, культура есть «форма общения индивидов в горизонте общения личностей» [Библер: 289]. Все действия и поступки человека, внешние и внутренние, по Бахтину, формируются под воздействием культуры, а в процессе диалога с «иным» складывается внутреннее понятие свободы личности. Именно благодаря этой свободе человек способен самоопределиться, самореализоваться в мире. Культура здесь выполняет одну из главных своих функций — регулятивную, т. к. позволяет человеку выработать идею о самом себе. Шокировавшая советскую бюрократию внутренняя свобода Бродского-поэта была обусловлена широкой начитанностью в европейской поэтической культуре и стремлением включиться в диалог с предшественниками. Диалогическое мышление всегда отличало значительных художников.
При этом в свои права вступает важное размышление А. В. Михайлова о культуре готового слова, присущего риторической культуре: « … слово, которым пользуется поэзия, есть готовое слово » , — размышляет исследователь [Михайлов: 510]. Сюда можно отнести целую речь, и отдельное высказывание, и фабулу, и жанр « как форму, в которую отливается мысль, и самое мелкое единство смысла (пусть, например, имя собственное), если только это происходит из фонда традиции и заранее дано поэту или писателю, если только это заведомо для него "готово"» (курсив мой. — Е. К .) [Михайлов: 511].
Бродский сам признает свою непосредственную связь с традицией риторической культуры, т. е. культуры классицизма. В ироническом стихотворении «Одной поэтессе» (1964) он с первой строки определяет собственную манеру: «Я заражен нормальным классицизмом», «Я эпигон и попугай»2:
«…я отдал предпочтенье классицизму. Хоть я и мог, как мистик в Сиракузах, взирать на мир из глубины ведра» 3 .
Поэт настаивал, что поэтическая образность не столько направлена к будущему, сколько стремится к диалогу с предшествующей литературной традицией, и в этом ее смысл и ценность. В любом, даже небольшом сборнике стихов Бродского несложно заметить его перекличку с английской поэзией (напр.: «Большая элегия Джону Донну», «Новые стансы к Августе», «Песня невинности, она же — опыта»), глубокие аллюзии на античную мифологию, Гомера, Вергилия, Горация, Овидия Назона [Корнелия] и др. Оттого евангельский цикл рождественских стихов в целом воспринимается как органическая часть общей поэтической концепции осмысления творчества и мироздания в целом.
Подобная картина характерна для очень востребованного в издательском деле и в разнообразных медиаресурсах цикла рождественских стихов Бродского. Журналисты не упускали возможности задать поэту вопросы по поводу его интереса к теме Рождества.
Находясь в эмиграции, Бродский дал интервью «Рождество: точка отсчета» журналисту Петру Вайлю, где объяснил свое отношение к Рождеству:
«— Прежде всего, это праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени. В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный» [Бродский, Вайль].
Есть размышления на этот сюжет и у самого поэта:
«Каждый год к Рождеству <…> я стараюсь написать стихотворение для того, чтобы <…> поздравить Иисуса Христа с днем рождения. Это самый старый день рождения, который наш мир празднует. Это единственный день рождения, к которому я отношусь более-менее всерьез. <…> Не знаю, как случилось, но действительно я стараюсь каждое Рождество написать по стихотворению, чтобы таким образом поздравить Человека, который принял смерть за нас» [Бродский, Вайль].
Из сказанного очевидно, что поэт предпочитает не указывать на свою конфессиональную принадлежность, а скорее опирается на евангельский рассказ, привлекающий его художественной ценностью, а также востребованностью в литературе и в изобразительном искусстве на протяжении двух тысяч лет.
Даже при первом знакомстве с рождественским циклом становится очевидно, что все его части отражают две поэтических реальности: либо страстную лирическую исповедь, нередко иронически или саркастически окрашенную, в деталях воссоздающую болезненное ощущение предпраздничных дней, связанных с Рождеством и Новым годом (причем именно в этой неправославной последовательности), в которые особенно резко ощущается неприкаянность, одиночество, разрыв социальных связей; либо полное остраненное погружение, перевоплощение в наблюдателя, а лучше — персонажа событий священной истории.
Первое стихотворение цикла «Рождественский романс» написано 28 декабря 1961 г. Бродский, по его собственному признанию, еще не читал текста Библии. Это произойдет спустя 2 года, в 1963 г. А пока ожидание наступления Нового года отражает вовсе не праздничное настроение, а «необъяснимую тоску» в ее монотонной, навязчивой повторяемости. Строки молодого Бродского завораживающе музыкальны [Яничек: 173] и пронизаны урбанистическими лейтмотивами, связанными основной мелодией «тоски необъяснимой»:
«Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада»4.
Тоска здесь явление метафизическое, как метафизична «хандра» в стихотворении Верлена « Il pleure dans mon coeur », в переводе Б. Пастернака:
«Хандра ниоткуда,
Но та и хандра, Когда не от худа И не от добра»5 — или в ламентациях шатобриановского Рене6. Бродский здесь никого не цитирует напрямую, но литературная традиция, как это было завещано Томасом Элиотом, с очевидностью овеществляется. Поэтому весь фоновый урбанистический пейзаж окрашен «тоской необъяснимой»; здесь «плывет <…> пчелиный хор сомнамбул, пьяниц», «выезжает на Ордынку / такси с больными седоками», «мертвецы стоят в обнимку / с особняками», «фотоснимок / печально сделал иностранец».
Печаль одолевает круглолицего дворника, певца, «записную» красотку и даже «невзрачную улицу». Что-то объясняет предпоследняя строфа, пронизанная морозным ветром, который швыряет на вагон «дрожащие снежинки». Поэт «в тоске» покидает предновогоднюю Москву с ее запахами «сладкой халвы» и «ночного пирога». Но в финале нет безнадежности. Напротив, Новый год с его ритуальным смыслом «по темно-синей / волне средь моря городского / плывет», даря надежду, «как будто жизнь начнется снова, / как будто будут свет и слава, / удачный день и вдоволь хлеба…» ( Бродский 2020 : 5–9). Поэт молод, и жизнь еще манит его радужными красками будущего.
Похожее настроение есть и в стихотворении «1 января 1965 года», которое открывается шокирующим заявлением: «Волхвы забудут адрес твой. / Не будет звезд над головой», — а завершается жизнеутверждающе: «…взгляд подняв свой к небесам, / ты вдруг почувствуешь, что сам / — чистосердечный дар» ( Бродский 2020 : 11–12). Печаль, грусть, отчаяние компенсируются поэтическим даром. Важнейшая в русской литературной классике тема поэта и поэзии продолжена и в рождественских песнях Бродского.
Ощущение неудовлетворенности, жизненного тупика и глобального одиночества становится темой значимого для понимания рождественских песен раннего периода творчества стихотворения «Речь о пролитом молоке» (1967). Само название этого рождественского гимна достаточно саркастично, а строфы исповеди оскорбленной души без преувеличения представляют настоящий псогос или даже более ранний фольклорный жанр римской литературы — инвективу, широко известную благодаря поэтической брани Катулла, со всеми составляющими этого древнего жанра — хулой на ближних, бранной лексикой, образами телесного низа:
«Я пришёл к Рождеству с пустым карманом. Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражён Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости ни к приятелю, у которого плачут детки, ни в семейный дом, ни к знакомой девке. Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости» ( Бродский 2020 : 15).
В этом стихотворении, как и в инвективе с ее жанровыми особенностями, очень много личных подробностей и бытовых примет ушедшего времени (коммунальная кухня, звуки из мест общего пользования, холодный блеск чужих кастрюль). Поэт не случайно избирает наиболее близкий к разговорному языку дольник, да еще и перебивает сам себя с задыхающейся интонацией, пропитанной обидой и гневом. Он уже пережил суд, ссылку, психиатрическую лечебницу, измену любимой («Двадцать шесть лет непрерывной тряски, / рытья по карманам, судейской таски, / ученья строить Закону глазки, / изображать немого») и готов высказаться об этом мире со всеми доступными ему горечью и сарказмом. Здесь нет ни волхвов, ни пастухов, ни даже самой звезды. Обсценная лексика, ряд выражений, явно не предназначенных для печати («Пусть КГБ на меня не…»), личная обида на окружающих («отношусь с недоверьем к ближним. / Оскорбляю кухню желудком лишним. / <…> Они считают меня бандитом, / издеваются над моим аппетитом. / Я не пользуюсь у них кредитом») и на власть ( «Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека! / Выносите святых и портрет Генсека!» ( Бродский 2020 : 48) ) , развенчание всевозможных авторитетов. Достается не только Марксу, Джугашвили, то есть Сталину, КГБ, но и «косому Будде», и Блоку, и Толстому («яснополянская хлеборезка» — Бродский 2020 : 51) с его непротивлением.
Несомненным шедевром «исповедальной урбанистики» становится рождественская зарисовка «24 декабря 1971 года», где мифологическая цикличность мироздания осознается как способ его осмысления, а два времени — современность и мистический евангельский хронотоп — вступают в мощнейший контрапункт, пародийно-иронический и сакрализованный одновременно. Не случайно поэт читал это стихотворение после Нобелевской речи на церемонии вручения премии:
«В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свёртков навьюченный люд: каждый сам себе царь и верблюд»
( Бродский 2020 : 75).
Евангельские короли у Бродского предстают в прозаическом обличье «добытчиков и дарителей»; поэт опускает все магические или символические смыслы, вложенные богословием в образы трех восточных королей: Балтасара, Мельхиора и Каспара, — прочитывая евангельский рассказ в бытовом ключе, как ипостаси тех, кто доставляет вполне осязаемые новогодние припасы. Такое сниженное прочтение Евангелия от Матфея (Мф. 2:11) явно добавляет иронический, пародийный смысл описанию современного праздничного действа, из которого давно изгнаны все его сакральные и ритуальные смыслы. Город наполнен толпой, лишенной души и веры, обезличенным населением, озабоченным только добыванием дефицита. Предметный мир, перечислительный тон, завораживающая точность картинки:
«Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере: ни животных, ни яслей, ни Той, над Которою — нимб золотой.
Пустота» ( Бродский 2020 : 76).
Но в какой-то момент толпа отступает, сутолока рассеивается, и яркий свет звезды пронизывает предрождественский мрак:
«Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства — основной механизм Рождества»
( Бродский 2020 : 76).
Эта неполная строфа производит магическое воздействие, как будто на мгновение включается волшебный фонарь, переносящий читателя в Палестину, в которой только что явился на свет спаситель Мира. Последняя строфа вновь переносит читателя в современный зимний город, где нет места вере и чудо, кажется, невозможно. Но душа поэта, который даже не прозелит, а скорее, неофит, требует чуда, как требовала его от апостолов некогда толпа, и оно происходит, и это неизбежно:
«Но, когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и Младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда»
( Бродский 2020 : 80).
Уже в этом стихотворении в целом обозначен комплекс евангельских образов, лейтмотивами проходящих сквозь весь рождественский цикл И. Бродского: фигуры волхвов (восточных королей, астрологов и жрецов), их дары, фоновые «костры», которые «пастухи разожгли», животные (верблюды, вол и осел), пещера, Богоматерь в платке, нимб золотой, младенец, ясли и… Вифлеемская звезда. Из этого набора видно, что поэтическое воображение опирается на оба синоптических Евангелия, в которых идет речь о рождении Иисуса. О волхвах повествует св. Матфей (Мф. 2:1–12), а о животных в пещере — св. Лука, который умалчивает о волхвах и их дарах, а говорит о поклонении пастухов (Лк. 2:8–20).
Вторая часть рождественского цикла Бродского в своей основе скрывает совсем иной механизм работы поэтической фантазии — это перевоплощение, преображение, вчувствование и в эпоху, и в культуру, то, что, к примеру, О. де Бальзак называл «ясновидением». Чаще всего помогают именно зрительные образы, аллюзии на религиозную христианскую живопись, которую поэт, уроженец Ленинграда, мог видеть в бесценных коллекциях Эрмитажа, Русского музея и величественных петербургских соборах. Хотя его собственное признание некоторым образом снижает, но вовсе не нивелирует предыдущее умозаключение:
«Первые рождественские стихи я написал, по-моему, в Комарово. Я жил на даче. <…> И там из польского журнальчика — по-моему, "Пшекруя" — вырезал себе картинку. Это было "Поклонение волхвов", не помню автора. Я приклеил ее над печкой и смотрел довольно часто по вечерам. <…> Я смотрел-смотрел и решил написать стихотворение с этим сюжетом. То есть началось все не с религиозных чувств, не с Пастернака или Элиота, именно с картинки»7.
Так в 1963 г. в творчестве Бродского возникает гимнография:
Рождество 1963 года
«Спаситель родился в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги. Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи, смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи»
[И. А. Бродский: pro et contra: 298].
Графический рисунок, или даже карандашная зарисовка, рассчитана на домысливание читателем всей дальнейшей рождественской истории. Однако тема не дает покоя и самому поэту; через несколько дней он создает продолжение: «Волхвы пришли. Младенец крепко спал. / Звезда светила ярко с небосвода» [И. А. Бродский: pro et contra: 314].
Оба стихотворения сюжетно продолжают друг друга, хотя ямбический размер здесь меняется с более динамичного трехстопного ямба на пятистопный. Хронотоп вполне очевиден — Вифлеем середины зимы (слишком мерзлый и снежный, как Ленинград?) и сакральная точка отсчета новой эры по Рождеству Христову. Такой прохваченный ледяным ветром голландский пейзаж с картин XVII в. со множеством живописных деталей:
«Холодный ветер снег в сугроб сгребал. Шу ршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче, то вдруг длинней» [И. А. Бродский: pro et contra: 314].
Однако вс е эти детали: лютая стужа, сугробы, пылающие костры пастухов, лохматые ноги верблюдов, крутые своды пещеры и даже ясли — написаны человеком, живущим спустя 2000 лет, который неожиданно проговаривается: «Никто не знал кругом, / что жизни счет начнется с этой ночи» [И. А. Бродский: pro et contra: 314]. А чудо Вифлеемской звезды пронизывает мрак всех этих тысячелетий.
В сакрализованном мире евангельского предания в изложении Бродского преобладают не столько религиозные, сколько историкокультурные влияния и смыслы. Воспитанный в атеистической советской среде, он более понятен сформировавшимся вне веры современникам и потомкам, чем воцерковленным проповедникам или носителям ортодоксальной культуры. Такая желанная людям тема дара, чуда, волшебства здесь уже максимально приближена к предчувствию Епифании, то есть чуду явления язычникам божественного младенца.
Очень показательным в группе «погружения», «ясновидения» является стихотворение “Anno Domini”. Оно занимает важное место в излюбленной теме перевоплощений-пародий на слишком эпичный исторический жанр. Замысел, как эхо, напоминает «Томление» Верлена ( «Я римский мир периода упадка» ):
«Когда, встречая варваров рои, Акростихи слагают в забытьи Уже, как вечер, сдавшего порядка.
Душе со скуки нестерпимо гадко.
А говорят, на рубежах бои.
О, не уметь сломить лета свои!
О, не хотеть прожечь их без остатка!
О, не хотеть, о, не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
Лишь стих смешной, уже в огне почти, Лишь раб дрянной, уже почти без дела, Лишь грусть без объясненья и предела»
(Пер. Б. Пастернака)8.
Бродский следует тем же путем погружения в эпоху и культуру, благодаря чему возникает очень живая зарисовка исторической эпохи:
«Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой, и факелы дымятся у крыльца.
Сильно опьянев, вожди племен стеклянными глазами взирают в даль, лишенную врага. Их зубы, выражавшие их гнев, как колесо, что сжато тормозами, застряли на улыбке, и слуга подкладывает пищу им» (Бродский 2020: 57–61).
Сам Бродский, вероятно, высоко ценил этот текст, поскольку посвятил его любимой женщине (М. Б.). Внутрь исторической стилизации он поместил личный мотив отношений с Мариной Басмановой:
«…его не хочет видеть Император, меня — мой сын и Цинтия. И мы, мы здесь и сгинем. Горькую судьбу гордыня не возвысит до улики, что отошли от образа Творца» (Бродский 2020: 62).
Этот интеллектуальный эксперимент — свидетельство глубокой эрудиции поэта. И при всей внешней маске костюмированного бала, маскарада в стихотворении так много личных аллюзий, как везде в «классической» лирике Бродского («для праздника толпе / совсем не обязательна свобода»). Героев стихотворения двое: тяжело больной наместник римской провинции и поэт («писатель, повидавший свет, / пересекавший на осле экватор»). Оба они одиноки и несчастны, хотя по-разному:
«Жена Наместника с секретарем выскальзывают в сад. И на стене орел имперский, выклевавший печень Наместника, глядит нетопырем…» ( Бродский 2020 : 61).
Другое дело поэт, утративший родину, любовь близких, свое дитя, так же, как и сам автор стихотворения:
«Отечество… чужие господа у Цинтии в гостях над колыбелью склоняются, как новые волхвы. Младенец дремлет. Теплится звезда, как уголь под остывшею купелью. И гости, не коснувшись головы, нимб заменяют ореолом лжи, а непорочное зачатье — сплетней, фигурой умолчанья об отце…» ( Бродский 2020 : 66).
Мир погружен во все ту же грусть, тоску, печаль, но они теряют свой метафизический характер, поскольку имеют вполне реальные основания и в личном опыте, и в мировом контексте.
В стихотворениях-декорациях «костюмного» типа помимо лейтмотивов мифологического уровня, которые объединяют весь цикл рождественских песен, появляется еще один, личностный уровень — это мотивы пронзительного холода, ветра, метели, бедности, изгнанничества и пустыни. Пустыня — национальный поэтический мотив, начиная с А. C. Пушкина, когда речь идет об общественной среде: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился…» («Пророк»); «В пустыне чахлой и скупой…» («Анчар»); у М. Ю. Лермонтова: «И вот в пустыне я живу, / Как птицы, даром божьей пищи» («Пророк»). У Бродского этот мотив крайне разнообразен, особенно в период эмиграции: в «Рождественской звезде» (1987), в «Бегстве в Египет» (1988), в «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…» (1989), и в «А что до пустыни, пустыня повсюду…», и особенно в «Колыбельной» (1990):
«Родила тебя в пустыне я не зря.
Потому что нет в помине в ней царя. <...>
Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе. <...>
Привыкай, сынок, к пустыне, под ногой, окромя нее, твердыни нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту в ней легко признаешь гору по кресту» (Бродский 2020: 115–126).
Итог странствий поэта, его личностного опыта горек, поскольку что может быть горестнее этой песни Девы над колыбелью младенца-Христа? Мир, несмотря на признание и награды, оказался для него пустыней, на которой как на важнейшей категории поэзии настаивает поэт.
Впрочем, Рождество — это все же праздник, и среди пронизанных болью стихотворений поэта появляются и шутливые Presepio («Ясли»), где изображен рождественский вертеп, обычно украшающий в преддверии праздника католические храмы:
«Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине до пят пастухи-исполины — все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу пылает костер. И потрогать фольгу Звезды пальцем хочется; собственно, всеми пятью — как младенцу тогда в Вифлееме.
Тогда в Вифлееме все было крупней. Но глине приятно с фольгою над ней и ватой, разбросанной тут как попало, играть роль того, что из виду пропало» ( Бродский 2020 : 109–110).
Бродский прибегает к излюбленному с ранних лет перечислительному тону, описывая предметный мир как декорацию мистического события, в котором все реально, все можно потрогать, но невероятно, поскольку чудо Богоявления (Ἐπιφάνια — Епифа-ния) повторяется из века в век. В целом после 1990 г. усиливается мотив звезды в стихотворениях без названия («Неважно, что было вокруг, и неважно…» (1990), «Что нужно для чуда? Кожух овчара…» (1993), а также в «Бегстве в Египет 2» (1995)), и это не случайность. Звезда — это не только «взгляд Отца», как было в ранней лирике, но и мотив целостности личности, по Юнгу (3+1):
«Во-первых, они были вместе. Второе, и главное, было, что их было трое, и все, что творилось, варилось, дарилось отныне, как минимум, на три делилось»
( Бродский 2020 : 107).
«Спокойно им было в ту ночь втроём. Дым устремлялся в дверной проём, чтоб не тревожить их. Только мул во сне (или вол) тяжело вздохнул.
Звезда глядела через порог» ( Бродский 2020 : 136).
И в этом надежда. Это путь к людям, к взаимопониманию, к человеческому теплу.
Заключение
В начале поэтической карьеры Бродский обращается к евангельскому мотиву Рождества в поисках альтернативы официальной коммунистической идеологии, одним из постулатов которой был атеизм. Поэта убивает требование единомыслия, единообразия, чудовищные цензурные запреты и ограничения (см.: «Речь о пролитом молоке»). Это стихотворение, разумеется, инвектива, но и одновременно псогос, поскольку поэт прибегает к обличительной риторике, оставаясь одиноким и гонимым носителем слова правды. Как большинство поэтов в России, вплоть до таких первоклассных мастеров как Ахматова и Пастернак, Бродский живет переводами (в основном детской поэзии). Он погружен в среду англоязычной и польской словесности, где евангельский нарратив и аллюзии на него свободно сосуществуют с широким кругом светских повествований. Так возникает замысел стихотворения «24 декабря 1971 года», построенного на не всем дающемся приеме контрапункта, где сакральный контекст Рождества наполняет святостью и ожиданием чуда предновогоднюю бытовую суету огромного, опустошенного ложными ценностями города. В поисках поэтической свободы поэт часто прибегает к интертекстуальности, художественным аллюзиям, погружениям в иные эпохи, использует исторические декорации.
Поэзия Бродского с самого начала творческого пути диалогична. Один из самых характерных приемов его поэтики — использование уже известного из творчества прославленных поэтических предшественников приема: это может быть и настроение, как в «Рождественском романсе», и жанр, как в Катулловой инвективе, а может быть стилизация под поэтический размер, максимально приближенный к оригиналу на другом, более того, древнем языке, как попытка переложения в дольник Алкеевой строфы в переложении Горация со всеми ее ритмическими особенностями, чему способствует уникальная музыкальность поэта (см. «Подражание Горацию»). Он легко берет сюжеты из живописи, как в двух стихотворениях «Рождество 1963 года», и мотивы, как в стилизации «Провинция справляет Рождество», сразу вызывающей в памяти знаменитое стихотворение Верлена «Langueur» ( Je suis l’Empire à la fin de la décadence ). Он работает с лейтмотивами евангельских повествований и аллюзий на них в русской поэзии, как в «Колыбельной», сохраняя в собственной поэзии дух оригинальности и соперничества с образцами. Постепенно Иосиф Бродский в рождественской тематике все более отходит от иронического посмодернистского взгляда на мир и склоняется к древним формам гимнографии. Возможно, это попытка найти опору, константу в зыбком и переменчивом мире.
Список литературы Цикл рождественских песен И. А. Бродского
- Абелинскене И. Ю. Художественное мироотношение поэта конца ХХ века: творчество И. Бродского: дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 1997. 26 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 430 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1986. 445 с.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 543 с.
- Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры: два философских введения в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1991. 413 с.
- Бродский И. А. Набережная неисцелимых: тринадцать эссе. М.: Слово, 1992. 256 с.
- Бродский И. А., Вайль П. Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // Независимая газета. 1991. № 165. 21 декабря. С. 6.
- Воробьева А. Н. Поэтика времени и пространства в поэзии И. Бродского // Возвращенные имена русской литературы: аспекты поэтики, эстетики, философии: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. И. Немцова. Самара, 1994. С. 185–197.
- Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М.: Наука, 1974. 487 с.
- И. А. Бродский: pro et contra: антология / сост. О. В. Богданова, А. Г. Степанов; предисл. А. Г. Степанов. СПб.: РХГА, 2022–2023. Т. 1–2. (Сер.: Русский Путь.)
- Ковалева И. «Греки» у Бродского: от Симонида до Кавафиса // И. Бродский и мир: Метафизика. Античность. Современность. СПб.: Звезда, 2000. С. 139–151.
- Казанский Н. Н. Подражание отрицанием («Подражание Горацию» Иосифа Бродского и Hor. Carm. I.14) // Arsphilologiae.Профессору А. Б. Муратову ко дню 60-летия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. С. 350–369.
- Корнелия И. Бродский и Овидий // Новое литературное обозрение. 1996. № 19. С. 227–249.
- Михайлов А. В. Языки культуры / вступ. ст. С. С. Аверинцева. М.: Языки русской культуры, 1997. 910 с.
- Поэтика Бродского: сб. ст. / под ред. Л. В. Лосева. Tenafly, N. J.:Эрмитаж,1986. 257 с.
- Романов И. А. Диалог культур в поэзии И. Бродского (античность и современность) // Сибирь — Америка: взаимодействие этносов и культур в полиэтнических регионах. Чита, 1999. С. 100–105.
- Сергеева-Клятис А. Ю., Лекманов О. А. «Рождественские стихи» Иосифа Бродского. Тверь: ТГУ, 2002. 44 с.
- Янечек Дж. Бродский читает стихи на смерть Элиота // Поэтика Бродского: сб. ст. / под. ред. Л. В. Лосева. Tenafly, N. J.: Эрмитаж, 1986. С. 172–185 [Электронный ресурс]. URL:https://vtoraya-literatura.com/pdf/poetika_brodskogo_1986__ocr.pdf (01.04.2023).