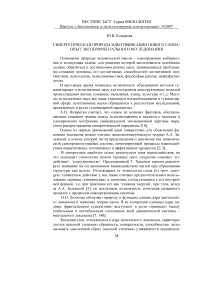Cинергетическая природа идентификации нового слова: опыт экспериментального исследования
Автор: Комарова Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120480
IDR: 146120480
Текст статьи Cинергетическая природа идентификации нового слова: опыт экспериментального исследования
CИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВОГО СЛОВА: ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Понимание природы человеческой мысли – одновременно амбициозная и волнующая задача, для решения которой исследователь неизбежно должен обратиться к достижениям разных наук, занимающихся проблемами сознания человека, его когнитивных способностей: когнитивной лингвистики, психологии, психолингвистики, философии разума, нейрофизиологии.
В настоящее время появилась возможность объединения методов гуманитарных и естественных наук для построения конструктивных моделей происхождения жизни, сознания, мышления, языка, культуры и т.д. Методы естественных наук все чаще становятся востребованными в гуманитарной сфере; естественные науки обращаются к результатам исследований, проведенных в русле гуманитарной парадигмы.
А.П. Назаретян считает, что одним из мощных факторов, обеспечивающих стирание границ между естествознанием и науками о человеке и одновременно построение универсальной эволюционной картины мира, стало распространение синергетической парадигмы [10].
Одним из первых применений идей синергетики для объяснения феномена лексикона можно считать психолингвистическую теорию А.А. За-левской, в основу которой легли представления о лексиконе как динамической самоорганизующейся системе, интегрирующей процессы взаимодействия перцептивных, когнитивных и аффективных процессов [2; 3].
В синергетике наиболее полно реализуется идея взаимодействия, на что указывает этимология самого термина: греч. синергейя означает ‘содействие’, ‘сотрудничество’. Предложенный Г. Хакеном термин акцентирует внимание на согласованном взаимодействии частей при образовании структуры как целого. Отталкиваясь от этимологии слова (от греч. syner-geia ‘совместное действие’), мы также считаем предпочтительным использование термина «синергетика» в значении, согласующимся с его внутренней формой, т.е. при трактовке его как ‘слияния энергий’, при этом, вслед за А.А. Залевской [5], не исключаем возможность сочетания названного процесса с процессом самоорганизации системы.
Н.О. Золотова объясняет природу и функцию единиц ядра ментального лексикона в терминах теории хаоса. В ее концепции единицы ядра, являясь фрактальными сущностями, выступают в роли «границы» между стабильным и нестабильным состоянием всей динамической системы – ментального лексикона [7: 140].
Значения слов, относящихся к ядру ментального лексикона, характеризуются высокой степенью образности, конкретности, способностью легко вызывать мысленный образ, высокой степенью узнаваемости индивидом.
Благодаря специфике значений, независящих от языкового кода и связанных с общими закономерностями работы памяти человека, раннему усвоению и связи с процедурным знанием единицы ядра лексикона человека играют роль своеобразных функциональных ориентиров (опор) в процессах идентификации других слов. Единицы ядра лексикона используются в качестве «типичных примеров», через соотнесение с которыми происходит идентификация менее типичных единиц, не входящих в ядро [Op. cit.: 105]. Использование единиц ядра в качестве слов-идентификаторов при разъяснении значения одних слов через другие, которое можно часто наблюдать в результатах экспериментов (особенно в реакциях, которые принято классифицировать как «субъективные дефиниции»), представляет собой реализацию метаязыковой функции единиц ядра ментального лексикона. Такие единицы служат опорами для активизации выводного знания и отправными пунктами внутренней референции [7]. В норме подобная метаязыковая деятельность носит скрытый характер, но в экспериментальных ситуациях идентификатор может быть вербализован.
За счет поступления в ментальный лексикон новой информации извне возникают некоторые случайные отклонения (флуктуации), которые могут усиливаться и приводить устойчивую структуру в нестабильное, неустойчивое состояние. На первом этапе процесса идентификации (благодаря эволюционно обусловленным возможностям) слово попадает в поле зрения индивида, раздражитель проходит слои сетчатки, достигает зрительных рецепторов, в которых энергия раздражителя превращается в нервные импульсы, попадающие по волокнам зрительного нерва в мозг.
Нам представляется, что движение энергии в ситуации опознания незнакомого слова направлено от индивида к слову и выражается в поиске индивидом опор и знакомых элементов, способных вывести его на смысл. Другой поток энергии идет от слова как воздействия внешней среды, его ассоциативного потенциала, который в свою очередь «оплодотворяется» и создается перцептивным, когнитивным и аффективным опытом человека. Таким образом, жизнь слова непрерывно связана с воспринимающим его человеком, вне взаимодействия с ним оно остается цепочкой графем или звуковым шумом.
В данном контексте убедительно прозвучат слова У. Эко о том, что если в процессе коммуникации участвует человек, то речь должна идти о мире смысла и о процессе означивания, ведь сигнал при этом уже более не просто «… ряд дискретных единиц, рассчитываемых в битах информации, но скорее значащая форма, которую адресат-человек должен наполнить значением» [14: 62]. По мнению У. Эко, в миг достижения адресата сообщение «пусто». Но эта пустота представляется как «... готовность к работе некоего означивающего аппарата, на который еще не пал свет избираемых мною, чтобы высветить его смысл, кодов » [Op. cit.: 466-467].
Г.Г. Москальчук рассматривает закономерности формообразования текста как природного объекта на материале обширного корпуса текстов различной стилистики. По мнению этого исследователя, форма текста является результатом смыслопорождающей активности человека и репрезентативной функции языка [8: 254]. Так как структурная организация текста обусловлена законами природы, вопросы, связанные с его самоорганизацией, должны рассматриваться в тесной связи с человеком. Таким образом, в тексте как открытой неравновесной системе упорядоченность существует только благодаря притоку энергии от человека [Op. cit.].
При восприятии текста человек воспринимает его информационную и структурную негэнтропию, накапливает и использует информацию, которая в свою очередь возбуждает энергетические посылы организма и интеллекта, т.е. «энергия, вложенная в структуру текста его автором, трансформируется в тексте в систему языковых символов и знаков, обладающую определенной структурной организацией и заключающей в себе определенный объем информации» [9]. Далее автор говорит о том, что «при восприятии текста в определенных ситуациях эта информация трансформируется в "созидательную энергию"» [Op. cit.]. Мы предполагаем, что такого рода проблемной ситуацией, для выхода из которой требуется большое количество энергии, является встреча с незнакомым словом.
Социолог Эдвина Таборски занимается проблемами семиозиса в русле учения Ч. Пирса с привлечением философии Аристотеля и современных подходов, принятых в теории хаоса и теории сложных систем. Ссылаясь на учение Аристотеля, она говорит, что основой жизни во всех ее формах – физической, химической, биологической и понятийной – является энергия, которая может существовать только если она кодифицирована или семиотически организована в действительность, т.е. когда она находится в состоянии информации. Именно это состояние информации, согласно Э. Та-борски, называется знаком. Отсюда следует, что семиозис, или означивание, – это происходящий внутри взаимодействий акт трансформации энергии в информацию, т.е. в экзистенциальную действительность в пределах принятых наборов привычных отношений. Эти отношения представляют собой более или менее устойчивые сферы принятых законов взаимодействий, которые обеспечивают непрерывную кодификацию, а следственно, непрерывность энергии как информации [16: 599–600].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что если акт означивания – это процесс трансформации энергии в информацию со стороны индивида, то акт идентификации поименованного – это трансформация информации в концептуальную энергию.
Моделирование процессов идентификации средствами эксперимента позволяет увидеть и проанализировать устанавливающиеся и постоянно перестраивающиеся в сознании индивида естественные связи между элементами лексикона как динамической системы, постоянно самоорганизующейся в целях оптимизации речемыслительной деятельности.
Наше обращение к новому слову как к экспериментальному материалу было вызвано предположением, что процесс идентификации таких слов будет замедляться, что позволит тем самым эксплицировать отдельные этапы этого процесса [11: 40].
Руководствуясь тем, что для испытуемых (далее – ии.) новое слово – это слово, впервые встреченное, в список слов-стимулов были включены: 1) слова, вышедшие из употребления; 2) слова, характерные для языка средств массовой информации, которые можно квалифицировать как окказионализмы, 3) иностранные слова, которые приобрели грамматические категории рода, вида, числа, имеющиеся в русском языке; 4) элементы «Поективного словаря» М. Эпштейна [15]. Представляется целесообразным остановиться подробнее на последнем источнике.
Лексическое поле языка имеет все возможности для образования смысловой ниши для практически любого нового слова. Исходя из этих соображений, М. Эпштейн уже на протяжении нескольких лет руководит проектом «Дар слова. Проективный словарь русского языка». Проективный словарь – это словарь лексических единиц и концептуальных возможностей русского языка, экспериментальный поиск новых моделей словообразования и словотворчества. Кроме создания новых слов, в рамках проекта осуществляется их лексикографическое описание, толкование значений, приводятся примеры употребления, обсуждаются мотивы введения в язык и т.д. [15].
Слова, предъявлявшиеся в качестве стимулов в нашем эксперименте, можно квалифицировать как низкочастотные и принадлежащие к периферии ментального лексикона. При этом частота слова интерпретируется как степень его встречаемости для индивида. Слова, которые читаются или слышатся каждый день, узнаются на письме и в речи быстрее или с меньшим количеством ошибок, чем редкие слова. Однако морфемный состав стимулов и близость по звукобуквенному комплексу к другим словам русского языка позволяет говорить о факторе частотности морфем (см. обсуждение в [12: 71–72]).
Таким образом, обращение к перечисленным выше источникам позволило обеспечить условие, что слова окажутся незнакомыми / новыми / впервые встреченными. При отборе слов нами также учитывались принципы разнообразия словообразовательных моделей, принадлежности к разным частям речи, разной степени семантической прозрачности при новизне слова. Эти слова, в свою очередь, можно разделить на две группы по степени их семантической прозрачности для ии.
В группу 1 вошли слова, которые характеризуются тем, что входящие в их состав морфемы или другие части этих слов известны носителю русского языка, уверенно владеющему другими словами, содержащими эту морфему (например, АВТОКЕФАЛИЯ - автомобиль, автономия; ТАКСИДЕРМИСТ - дерматолог и т.д.). С другой стороны, некоторые элементы этих слов встречаются в знакомых русских словах, не имеющих семантической связи с новым словом (ЭКИВОК - кивок). Таким образом, явля- ясь новыми для испытуемых, слова группы 1 все же будут иметь относительную семантическую прозрачность.
К группе 1 принадлежат следующие слова-стимулы: ОРЕАЛИТЬ, ОПУТИТЬСЯ, ДОСТОЕВСТВОВАТЬ, СЕТИТЬСЯ, ИРАКНУТЬ, ЧРЕЗ-МИРНЫЙ, ГЛОКАЛЬНЫЙ, ХРОНОЦИД, АПЛОМБ, ТАКСИДЕРМИСТ, ЭКИВОК, ПЛАНИДА, АВТОКЕФАЛИЯ, КРУТИЛА.
В группу 2 вошли слова, обладающие более низкой степенью семантической прозрачности для ии. Это следующие стимулы: ПЕРЕБАЛЧИВАТЬ, ЧЕКРЫЖИТЬ, ОДИОЗНЫЙ, ЛАПИДАРНЫЙ, СКАБРЕЗНЫЙ, АПОЛОГЕТИЧЕСКИЙ, ЗАКОПЁРЩИК, ШАНДАЛ, ПРОМУЛЬГАЦИЯ, ФЕЛЮГА, ЭСКАПАДА.
Исследование проводилось на основе методики, предложенной С.И. Тогоевой [13], с некоторыми модификациями. Эксперимент включал: 1) опознание слова как знакомого (+) или незнакомого (-); 2) субъективное шкалирование степени понимания значения (по шкале от 0 до 4); 3) свободный ассоциативный эксперимент; 4) на обратной стороне бланка ии. предлагалось напротив каждого слова написать, что по их мнению оно обозначает, т.е. фактически дать субъективную дефиницию значения слова.
В ходе эксперимента планировалось проверить рабочую гипотезу о синергетическом характере процесса идентификации незнакомого слова, основанного на постоянных взаимодействиях различных опорных элементов в сознании индивида. Содержание перцептивно-когнитивноаффективного опыта человека направляет выбор опоры, а «схваченный» опорный элемент, в свою очередь, выступает в качестве аттрактора, притягивающего к себе определенный фрагмент этого опыта. При этом, чем менее знакомо слово, тем большую роль при его идентификации будут играть единицы ядра ментального лексикона. Именно они будут направлять процесс идентификации, являясь областями притяжения ассоциаций. Отсюда следует, что в процессе идентификации идет постоянное взаимодействие внутреннего и внешнего контекстов, различных типов знания; динамическая система смыслов у индивида постоянно перестраивается для решения требуемой задачи. Предполагалось выявить следы взаимодействия тела и разума, индивидуального и коллективного типов знания в этих процессах.
Одной из целей нашего исследования являлось сопоставление опорных элементов в свободных ассоциациях и субъективных дефинициях при разъяснении слова как «для себя», так и «для других».
В экспериментальном исследовании участвовало 100 носителей русского языка: студенты второго и четвертого курсов факультета иностранных языков и международной коммуникации Тверского госуниверситета; студенты первого курса лечебного и стоматологического факультетов, студенты первого и второго курсов факультета высшего сестринского образования, преподаватели Тверской государственной медицинской академии.
Представляется интересным отметить, что, несмотря на то, что слова предъявлялись в письменной форме, некоторые ии. проговаривали их про себя и даже вслух. Это, вероятно, обусловлено, во-первых, спецификой организации индивидуального лексикона, предполагающей возможность установления связей между отдельными единицами на основе совпадения элементов различной протяженности и различной локализации в составе их словоформ, а также включением слова во внутренние когнитивные контексты разного характера и протяженности, что обеспечивает вхождение каждой единицы лексикона в большое количество связей по линиям звуковой и/или графической формы [4]. Во-вторых, такое поведение ии. указывает на определенную роль тела в процессе идентификации незнакомого слова.
Проанализируем материал, полученный от ии. на слова-стимулы группы 1. При обработке экспериментального материала мы пришли к выводу, что при встрече с незнакомым словом, которое содержит в себе знакомые части, ии. прибегают к ним как к опорам намного чаще, чем к другим видам опор. Такими элементами являются части слова, встречающиеся в других словах, которыми носители языка владеют уверенно. Л.В. Банкевич называет эти части «ключевыми точками», которые служат магнитом и притягивают слова-ассоциаты к слову-стимулу [1: 27].
Похожие выводы находим в работе Т.Ю. Сазоновой, считающей, что опорными элементами могут послужить «… различные компоненты слова, как значимые, или морфологические компоненты, так и простые цепочки графем и/или фонем, находящиеся в начале, в середине и в конце слова. Идентификация также может быть обусловлена комбинацией двух или более мотивирующих элементов» [11: 116]. В терминах синергетики эти части слова являются аттракторами, которые направляют процесс идентификации. Опоры на такие части слова могут быть нескольких видов: опора на корневой элемент, опора на префиксальный элемент, опора на аффиксальный элемент, опора на сходные по звукобуквенному комплексу слова.
В случае со словом-стимулом ОРЕАЛИТЬ аттрактором послужила корневая часть -РЕАЛ-, которая задала направление ассоциаций в индивидуальном лексиконе ии. Опора на знакомый корневой элемент послужила основной, однако реакции все-таки являлись результатом взаимодействия опорных элементов. К вспомогательным опорам можно отнести повторение в реакции частеречной принадлежности стимула; субъективное дефи-нирование с помощью слова ядра ментального лексикона, синонима и/или симиляра. Среди говорящих в пользу этого реакций встретились следующие: осуществить, реальный, реальность (+7), сделать реальным, реально что-то сделать, перенести сказку в реальную жизнь, сделать настоящим, сделать реальностью, придать реальный вид, сделать нереальное реальным, осуществить, настоящий, истинный, придать реальный вид, осуществить задуманный план, определить, воплотить в жизнь, выполнить, реалия, действительность, воплотить в реальность, реализовать и т.п.
Многие ии. опознали знакомую часть ОРЕАЛ- , ее значение, что и дало направление процессу идентификации. Другими опорами послужили также повторение в реакции частеречной принадлежности стимула; субъ- ективное дефинирование с помощью слова ядра ментального лексикона, синонима и/или симиляра, что отразилось в следующих реакциях: ореал, ареол, ореол, место обитания, окружность, окружить, круг, движение по часовой стрелке, охватить, место обитания, населять какую-либо территорию, ограничить, окружить местность, местность, определить местонахождения, создавать границы какого-то понятия, распределить по зонам, вращаться в определенных кругах, создавать границы понятия или явления и т.п. Реакции типа орать, говорить громко являются результатом взаимодействия опоры на часть ОР-, учета частеречной принадлежности, дефинирования при помощи синонима. Часть ОР- также направила процесс идентификации, результатом которого стали реакции воодушевить кого-то, подбадривать, воодушевлять, но в данных случаях имеет место большое влияние актуализированного образа: кричать, т.е. воодушевлять кого-то, болеть на соревнованиях.
Проанализируем материал, полученный от ии. на слова-стимулы группы 2. Слова данной группы характеризуются более низкой степенью семантической прозрачности, т.е. в них нет ярко выраженных знакомых элементов. Поэтому, по нашему предположению, опорными элементами будут являться единицы ядра ментального лексикона, принадлежащие к той же части речи, что и слово-стимул.
Хорошо известным, усвоенным в детстве самым частотным представителем части речи «глагол» является глагол ДЕЛАТЬ. Поэтому именно это слово как «типичный пример» и опорный элемент выступило аттрактором для глаголов-стимулов группы 2. Рассмотрим реакции на стимул ПЕРЕ-БАЛЧИВАТЬ.
Опознав слово-стимул как глагол, ии. разъяснили его значение через глагол, принадлежащий к ядру ментального лексикона. В некоторых случаях ии. опирались еще и на знакомый префиксальный элемент ПЕРЕ-. Так как значение этой приставки является частью зарегистрированного коллективного знания, можно говорить о большом его влиянии на процесс идентификации. Среди реакций, говорящих в пользу этого предположения: делать, переделывать (+3), делать заново, делать что-то чрезмерно, сделать сверх чего-либо, переделывать, делать дело, что-то делать чересчур, делать усердно .
Для многих ии. в качестве аттрактора в процессе идентификации обсуждаемого слова послужил корневой элемент стимула: -БАЛ[Ч(К)]-, что проявилось в реакциях, относящихся к четырем ассоциативным полям:
-
1) строительство - стройка, перекапывать, перестройка, балка, забалчивать местность, молоток, конструкция, палка, класть балки, покрывать балками, забивать балки, что-то связанное с заменой балок при ремонте, огородить территорию слишком большим количеством балок, разбирать, реконструировать, менять конструкцию, обновлять конструкцию деревянного дома и т.п.;
-
2) болтать=разговаривать - рассказывать, перемалывать - т.е. перетирать в разговоре, обсуждать, сболтнуть лишнего, перевернуть - т.е. извратить, про-
- болтаться, слишком много болтать; процесс, при котором один человек много говорит, а другой молчит; говорить - балакать, сплетничать, пересказывать, вести переговоры и т.п.;
-
3) болтать=перемешивать - взбалтывать (+3), перемешивать (+8), взболтать несколько раз и т.п.;
-
4) болото - илистое дно, болото (+3), осушать болото.
О преобладающем влиянии индивидуального знания при большой роли эмоционально-оценочного элемента (индивидуального знания как перцептивно-когнитивно-аффективного образа мира индивида) говорит опора на ситуацию (с фиксацией в ассоциации актуального и переживаемого в данный момент). В процентном отношении реакций такого типа было намного меньше. По нашему мнению, природа таких ассоциаций объясняется влиянием эмоционального фактора: аттрактор «вытянул» из содержания перцептивно-когнитивно-аффективного опыта ии. самое актуальное на данный момент времени. Это отразилось в следующих реакциях: негативное отношение, ставить другие баллы в рейтинге, копаться в огороде.
В работе [7] приведены реакции русских детей 11–12 лет на такие стимулы, как БАБУШКА, ДЯДЯ, ЖЕНА и т.п., которые толковались испытуемыми через слово «человек». В нашем эксперименте, если слово-стимул принадлежало к группе 2 (т.е. не было достаточно семантически прозрачным, предоставляло мало формальных опор), то ии., опознав словообразовательную модель незнакомого слова как модель субъекта, осуществляющего действие, прибегали именно к помощи слова «человек» при необходимости дать субъективную дефиницию.
Проанализируем материал, полученный на слово-стимул ЗАКОПЁРЩИК. В пользу нашего предположения говорят следующие реакции: человек, который закупоривает что-то; какой-то человек, человек, занимающийся закоперыванием; человек, который что-то закапывает; человек закостенелых взглядов, человек, коптящий рыбу; человек, связанный с замками; неразговорчивый человек, человек, запирающий дверь; человек, закручивающий шурупы и гайки; человек, мелочный и щепетильный человек, работящий человек, плохой человек; человек, закупоривающий бутылки, человек, копирующий что-то; человек, занимающийся определенной работой и т.п. К реакциям подобного типа можно отнести те, в которых слово «человек» заменяется местоимением «тот»: тот, кто что-то закрывает; тот, кто пишет на копировальной бумаге; тот, кто добывает медь; тот, кто делает изделия из перьев; тот, кто берет деньги в долг и т.п.
Очевидно, что именно слово «человек» благодаря специфике свойств его значения определило направление идентификации. Однако это было не единственной опорой. Как видно из приведенных примеров, ии. также опирались на сходные по звукобуквенному комплексу слова родного языка: КОПтить, ЗАКАПывать, ЗАКУПоривать, КОПировать, ПЕРья, ЗАКручивать. Эти слова использовались как самостоятельные средства «параметри- зации» человека или такими средствами выступали их синонимы и слова того же ассоциативного поля: ЗАКРЫВАТЬ, ЗАМОК и т.п.
Итак, при идентификации незнакомого слова происходит уравновешивание главного и неглавного, существенного и несущественного, задействуется информация разных уровней осознавания. Благодаря охвату максимально возможного разнообразия элементов знания, вовлеченности в этот процесс всего содержания перцептивно-когнитивно-аффективного опыта индивида происходит перестройка всей системы в целом как продукт взаимодействия энергии разной природы и интенсивности.