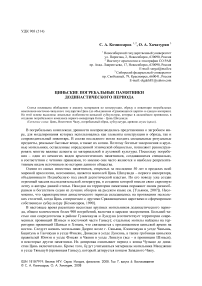Циньские погребальные памятники додинастического периода
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Хачатурян Ольга Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обобщению и анализу материалов по конструкции, обряду и инвентарю погребальных комплексов восточно-чжоуского государства Цинь (до объединения «Сражающихся царств» в единую империю). На этой основе выделены локальные особенности циньской субкультуры, которые в дальнейшем проявились в создании погребального комплекса первого императора Китая - Цинь Шихуанди.
Цинь, восточное чжоу, погребальный обряд, субкультура, древние жуны (цяны)
Короткий адрес: https://sciup.org/14737001
IDR: 14737001 | УДК: 903
Текст научной статьи Циньские погребальные памятники додинастического периода
В погребальных комплексах древности воспроизводились представления о загробном мире, для моделирования которых использовались как элементы конструкции и обряда, так и сопроводительный инвентарь. В состав последнего могли входить специальные ритуальные предметы, реальные бытовые вещи, а также их копии. Поэтому богатые захоронения и крупные могильники, оставленные определенной этнической общностью, позволяют реконструировать многие важные аспекты ее материальной и духовной культуры. Поскольку погребения – один из немногих видов археологических памятников, создававшихся специально, в соответствии с четкими правилами, то именно они часто являются и наиболее репрезентативным видом источников по истории данного общества.
Одним из самых известных памятников, открытых за последние 50 лет в пределах всей мировой археологии, несомненно, является мавзолей Цинь Шихуанди – первого императора, объединившего Поднебесную под своей деспотической властью. По его поводу уже создан огромный массив исследовательской литературы, в создание которой внесли свою скромную лепту и авторы данной статьи. Находки на территории памятника поражают своим разнообразием и богатством (один из лучших обзоров на русском языке см. [Ульянов, 2007]). Несомненно, что характеристики династического периода складывались на протяжении нескольких столетий, когда Цинь соперничало с другими Сражающимися царствами и сформировало собственную субкультуру [Комиссаров, 1990].
В настоящее время раскопано несколько крупных могильников додинастического периода, общим количеством более 900 погребений, включая и царские захоронения. Большей частью они сосредоточены в районе Гуаньчжуна и Лундуна (соответствует территории современных провинций Шэньси и восточной части Ганьсу); отдельные могилы найдены на территории провинций Шаньси и Хэнань, что связывается с продвижением циньской армии на восток. Следует назвать могильники Даэрпо возле г. Сяньяна, Кэсинчжуан в уезде Чанъань, Бацитунь и Гаочжуан в уезде Фэнсян, Дяньцзы в уезде Лунсянь, а также гробницы циньских правителей Юнчэн в уезде Фэнсян и Чжиян в уезде Линьтун (все – в провинции Шэньси); и некоторые другие памятники. Их датировка охватывает период с конца Чуньцю до династии Цинь включительно. Кроме того, будут учитываться материалы могильника Маоцзяпин в уезде Тяньшуй (провинция Ганьсу), который датируется концом Западного Чжоу.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 4: Востоковедение
На основании обзора материалов из наиболее крупных могильников удалось выделить доминирующие черты погребального обряда. В ориентации погребений абсолютно преобладает линия запад – восток, причем в основном головой на запад. Это отличает циньские погребения от других чжоуских, в которых преобладала ориентация головой на север, зафиксированная как черта ритуала в «Ли цзи». В положении костяков в могиле наблюдаются заметные различия, однако доминируют одиночные погребения в скорченной позе, которые занимают от 70,3 % и вплоть до 93,71 % [Китайская археология, 2004. С. 326–327]. При этом китайские исследователи не производят дальнейшего разделения (на спине, на правом или левом боку), очевидно, не считая его существенным. Руки сложены на груди или животе, ноги согнуты под острым углом (менее 40 °), вплоть до того, что кости голени и бедра смыкаются; таким образом, воспроизводилась поза человека, сидящего на корточках. В качестве этнографических параллелей Е Сяоянь указывает на погребальные обряды у тибето-бирманских народов дулун и наси, проживающих на территории пров. Юньнань: первые считали, что смерть – это долгий сон, от которого не просыпаются, поэтому придавали покойнику позу спящего; вторые считали, что такова поза человека перед рождением и, соответственно, фиксировали ее с помощью веревок, перед тем, как предать тело огню [Е Сяоянь, 1982. С. 66]. Чжао Хуачэн приводит материалы обследования этнической группы «белоконных» тибетцев («байма цзан»), проживающих в северо-западной части пров. Сычуань (уезд Пинъу). При захоронении они связывали покойников в скорченном положении и помещали в могилу лицом на запад, «в позе спящего». Там же приводится описание обычаев средневековых тибетцев ( фань ), которые сгибали покойникам ноги калачиком и хоронили сидя, обложив камнями и землей. Появление тибетцев на юге связывают с движением племен ди-цян из района Ганьсу -Цинхайского плато. Следует отметить, что в самом раннем циньском могильнике Маоцязпин в восточной части пров. Ганьсу все погребения скорченные, с ориентацией на запад. Скорченные погребения отмечены в культурах позднего неолита – раннего металла этого региона: баньшань , мачан и цицзя [Чжао Хуачэн, 1987. С. 5].
По устройству могильной ямы выделяются два основных типа, имеющих хронологическое значение. На раннем этапе полностью преобладали прямоугольные ямы с вертикальными или несколько наклонными стенками; начиная со среднего периода Чжаньго широко распространяются погребения с подбоем, как правило, вырытым в западной стенке могильного колодца. Массовое внедрение нового элемента в погребальный обряд, возможно, объясняется внешним влиянием, хотя другие составляющие большим изменениям не подвергались.
На высоте примерно 1 м от дна могилы часто делался уступ: либо вырезанный в материке, либо специально возведенный из утрамбованной земли, – который плотно охватывал со всех сторон стенки саркофага. На уступах размещались человеческие жертвоприношения (иногда в деревянных ящиках), жертвенные животные (собаки, овцы) и часть сопроводительного инвентаря. Для этих целей в стенках могил также могли выкапываться ниши. Для раннего этапа известно несколько могил с яокэном – небольшой ямой в центре могилы, где чаще всего помещалась принесенная в жертву собака. Особенность эта известна еще в период Шан-Инь (см. [Кучера, 1977. С. 172]) и свидетельствует о заметной архаичности циньского погребального обряда. Жертвенные животные помещались также в специальных ямах: либо целые туши овец и собак, либо отдельно головы или четыре конечности (возможно, шкуры) коров, овец и свиней [Хань Вэй, 1981. С. 90].
Покойников хоронили в дощатых гробах, которые помещали в один или, редко, два саркофага («внешних гроба»). Между саркофагом и гробом в головах оставлялось значительное пространство, куда помещались крупные ритуальные предметы из бронзы и керамики [Шан Чжижу, Чжао Цунцан, 1986. С. 8]. Сверху их закрывали циновками и перекрывали досками, уложенными на края уступа. Конструкция могла быть и более сложной – как, например, в могиле М17396 в Даэрпо, где в камере были вертикально установлены бревна-столбы с поперечными балками, крытыми досками. Фактически под землей было построено жилище с использованием каркасно-столбовой конструкции, подобно тому, как сооружались все здания в ту эпоху.
Важную составную часть элитных погребений составляют так называемые чэ-ма кэны (ямы с колесницами и лошадьми). Традиция их использования восходит еще к иньскому времени и особенно активно реализуется в периоды Западного Чжоу и Чуньцю. Они сопро- вождают в качестве жертвенных ям наиболее значимые погребения и содержат одну или несколько (до 12) колесниц с лошадьми (по две или по четыре, которых забивали до захоронения) и часто с колесничим. Любопытная деталь – в одной из относительно поздних могил в Бацитунь, датированных начальным периодом Чжаньго, найдены две керамические модели повозок (колес для них), запряженных быками. По остаткам деревянных деталей этих моделей было установлено, что использовалась оглобельная запряжка; это самое раннее свидетельство подобной конструкции [У Чжэньфэн, Шан Чжижу, 1980. С. 73–75].
Наибольшей пышностью, естественно, отмечены погребения правителей. Целое скопление таких могил обнаружено в окрестностях дер. Наньчжихуй (уезд Фэнсян, пров. Шэньси), где по данным летописей располагалась циньская столица Юнчэн периода Чуньцю и начала Чжаньго. Комплекс был окружен системой рвов, погребения концентрировались в южной части, а основные жертвенные ямы – в восточной части [Хань Вэй, 1983. С. 37]. Всего в ходе двух сезонов в рамках обширного погребального парка выявлено 43 большие могилы, из которых не менее 13 принадлежат правителям- гунам . Комплекс был также оборудован дренажными системами, выложенными камнем [Хань Вэй и др., 1987]. Захоронения гунов выделяются как своими размерами, так и конструкцией. К основной камере присоединялись (с одной или двух сторон) могильные коридоры-дромосы, а также дополнительные помещения для сопогребений и размещения инвентаря. Для аристократических погребений характерно наличие бронзовых ритуальных сосудов (с тенденцией к миниатюризации) и оружия, которые сочетаются с многочисленными керамическими предметами. Использование богато украшенной керамики, копирующей бронзовые сосуды, является одной из особенностей циньских комплексов. В рядовых погребениях обычно использовали бытовую керамику, которая на поздних этапах появляется и в элитных могилах. В качестве специфической для Цинь формы выделяются триподы- ли с «ножками в виде заступа», аналогии которым можно найти в культуре цицзя .
В наборе бронзовых сосудов прослеживается система общечжоуского ритуала «ле-дин» («выставленных в ряд треножников- дин »). Суть ее состоит в корреляции количества сосудов дин (служивших для принесения в жертву мясной пищи) и гуй (для зерна). Количество дин должно было быть нечетным (от девяти для могилы владетельного князя и до одного для могил простых воинов-«дружинников»), а количество гуй – четным и, как правило, на один сосуд меньшим, чем дин (см. [Крюков, 1984. С. 29]). В сочетании с бронзовыми сосудами могли использоваться и их керамические копии.
В оружейном наборе представлены все виды: клевцы, наконечники копий, топоры-кельты, бронзовые бляхи для доспехов и щитов (умбоны), наконечники стрел. Найденные кинжалы некоторыми учеными выделяются в особую группу «кинжалов циньского типа», датированных периодом Чуньцю и началом Чжаньго [Чжан Тяньэнь, 1995]. Их общие характеристики включают языковидный клинок с небольшим подпрямоугольным перекрестьем и выделенным навершием, поверхность которых заполнена орнаментом; в некоторых случаях (например, у экземпляра из Таньцзяцунь) в нем отчетливо проглядывают парные головки грифов. Поэтому мы не склонны полностью согласиться с Кан Ин Уком, который обращает внимание только на орнамент «культуры Центральной равнины» и отделяет эти кинжалы от ордосских бронз [Кан, 1999]. С учетом того, что помимо циньских могильников эти кинжалы находят в основном в северных районах, примыкающих к степному поясу, мы склонны считать, что кинжалы этого типа изготовлялись циньцами под влиянием традиций кочевников (жунов или ди).
Заслуживает внимания использование погребальных фигур. Их найдено сравнительно немного, для додинастического периода известно около 20 штук – небольшого размера (не выше 25 см), изготовленные из разных материалов: камня, дерева, глины (необожженной). Хотя изображения довольно простые, но на многих уже проработаны черты лица, показаны отдельные детали одежды. По роскошной отделке халата можно выделить несколько фигур сановников, есть также изображения колесничих, остальных можно условно определить как прислугу [Ху Линьгуй, 1987]. Данный факт знаменует важный поворот в ритуале: признание самой возможности замены при погребении реальных жертв их изображениями.
Проведенный краткий обзор особенностей циньских погребений (обряда и инвентаря) позволил выделить ряд специфических черт, которые позволяют говорить о выделении суб- культуры государства Цинь в рамках общей чжоуской традиции. К этим специфическим элементам относятся ориентация погребенного (головой на запад), скорченная поза, широкое распространение подбоев, выделенные погребальный парки для захоронения правителей, подземная архитектура, сохранение обряда человеческих жертвоприношений и сопогребений параллельно с началом использования вотивной погребальной пластики, керамические копии бронзовых ритуальных сосудов, особые формы триподов-ли, кинжалы типа цинь. Многие из этих черт получают дальнейшее развитие в монументальной конструкции мавзолея Цинь Шихуанди. В этом отношении можно согласиться с выводом К. Дебен-Франкфор о том, что при строительстве мавзолея следовали «старым традициям Цинь» [Дебен-Франкфор, 2002. С. 93].
В то же время некоторые из перечисленных особенностей имеют этнокультурное значение. В китайской историографии велась оживленная дискуссия о происхождении циньцев. Некоторые ученые, ссылаясь на данные письменных источников, отстаивали восточное происхождение циньцев, тогда как другие обращали внимание на сведения, указывавшие на их тесную связь с западными жунами (см. [Чжао Хуачэн, 1987. С. 1–2]). В «Исторических записках» Сыма Цяня подробно излагается история общения (как мирного, так и вооруженного) Цинь с жунами, в том числе их многочисленные брачные связи; по данным известного историка Цзянь Боцзаня, раннее население Цинь даже называлось «циньскими жунами» [Сыма Цянь, 1975. С. 17 и др.; С. 290 (коммент.)]. Археологические открытия также указывают на западные истоки Цинь, что не исключает прихода части элиты из восточных царств. Циньская культура формировалась на основе пересечении многих традиций, среди которых значительное место занимали позднеиньская и предчжоуская культуры [Ван Сюэли, Лян Юнь, 2003]; однако нельзя отрицать и существенного влияния жунских традиций. Различные племена жунов (цянов), которые принято определять как прототибетские (с возможной примесью других племен), проживали на территории провинций Ганьсу и Цинхай, создав целый ряд культур палеометалла ( мацзяяо, мачан, баньшань, цицзя, каяо, сыба, синьдянь, сыва ) [Се Дуаньцзюй, 2002]; но в конце периода Западного Чжоу они практически исчезают. Частично носители этих культур были вытеснены на территорию Тибетского плато, где приняли участие в создании тибетского этноса. Некоторая их часть, как свидетельствуют письменные источники, продолжала жить в верховьях Хуанхэ, сохраняя свои обычаи (см. [Крюков и др., 1983. С. 75–76]), хотя на археологическом материале их культура пока не фиксируется. Можно предположить, что значительная часть жунов вошла в состав циньцев, передав им часть своих культурных характеристик. Любопытный символ такого влияния можно усмотреть в бронзовой подвеске, найденной при раскопках чэ-ма кэна в Бацитунь [У Чжэньфэн, Шан Чжижу, 1980. С. 77, 84]. На этом предмете с одной стороны изображена голова человека, а с другой – голова барана, таким образом он словно воплощает в бронзе иероглиф цян, представляющий собой соединение двух иероглифов: человек и баран. Подвеска была найдена в погребении колесничего, которые в циньском обществе относились к аристократии, что свидетельствует о присутствии жунского (цянского) компонента в составе элиты государства Цинь. Дальнейшие исследования, в том числе новых материалов из мавзолея Цинь Шихуанди, позволят уточнить степень этого влияния.
Qin Burial Sites of Predynastic Period