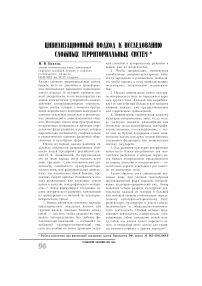Цивилизационный подход к исследованию сложных территориальных систем
Автор: Бахлов И.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия и методология социальных и гуманитарных наук
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Территория, сложная территориальная система, цивилизационный подход, н. я. данилевский, к. н. леонтьев, о. шпенглер, а. тойнби, в. л. цымбурский, альтернативы цивилизации
Короткий адрес: https://sciup.org/14720493
IDR: 14720493
Текст статьи Цивилизационный подход к исследованию сложных территориальных систем
ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева
Анализ сложных территориальных систем, прежде всего их динамики и трансформации, предполагает применение цивилизационного подхода. В историю вносится элемент дискретности, и она моделируется как живая динамическая суперсистема взаимодействия саморазвивающихся социокультурных систем, которые с момента преодоления первобытного состояния выступают в качестве отдельных локальных и региональных цивилизаций и цивилизационных ойкумен. Последние имеют свои пространственно-временные координаты и проходят определенные фазы развития, в рамках которых выразительно проявляется содержательное и стилистическое единство различных общественных и культурных форм1.
Одним из первых анализ развития отдельных, циклически развивающихся сообществ людей предпринял российский ученый Н. Я. Данилевский. Он предположил, что на долю народа могут выпасть всего лишь три роли: «...или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божиих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служащие чужим целям в качестве этнографического матери-ала...»2. Автор формулирует следующие законы исторического развития, вытекающие из группировки его явлений по культурноисторическим типам:
-
1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой, — для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задат
-
2. Чтобы цивилизация, свойственная самобытному историко-культурному типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью.
-
3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций.
-
4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия или богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, — когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств.
-
5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу.
кам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.
Таким образом, рост цивилизации возможен лишь при условии многообразия организационных форм народов, составляющих культурно-исторический тип. Автор выделяет четыре разряда культурной деятельности, каждый из которых в большей или меньшей степени соответствует определенному культурно-историческому типу: религиозную, культурную в узком смысле, политическую и общественно-экономическую деятельность. Особый интерес представляет деятельность политическая, «объединяющая собою отношения людей между собою как членов одного народного целого, и отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим народам»3.
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ, проект № МД-4540.2008.6
Римская империя стала образцом реализации политической составляющей культурно-исторического типа, государственной организации образующего его народа. Как считает Данилевский, «...очевидно, что государство тогда только может соответствовать своему предназначению, когда будет движимо одною национальною волею, что возможно лишь в следующих трех случаях: 1) когда в состав государства входит одна национальность; 2) или когда численное и нравственное преобладание господствующей народности так сильно, что включенные в государственный состав слабые национальности не могут оказывать никакого действительного сопротивления выражению ее национальной воли, и, следовательно, собственный интерес побуждает их слиться в одно с нею целое; или, наконец, 3) когда главная национальность хотя и не преобладает численно, но одна лишь имеет политическую волю; прочие же, хотя и многочисленные, составляют лишь материал, которым верховная национальность может распоряжаться по своему произволу. Этот случай, очевидно, может иметь место лишь тогда, когда подчиненные народности составляют только единицы этнографические, никогда историческою жизнью не жившие, а если и жившие, то потерявшие сознание своей исторической роли. Во всех этих трех случаях в государстве будет по самой сущности дела господствовать система политического централизма, хотя бы в административном отношении части его пользовались самою широкою самостоятельностью. Когда эта система становится неприемлемою, то и государство делается невозможным...»4.
Подводя итог анализу концепции Н. Я. Данилевского в интересующем нас ключе, следует подчеркнуть, что динамика цивилизации в политическом плане проходит следующие стадии: племя (этноязыковое сообщество) — союз (федерация) или политическая система государств, пользующихся политической независимостью — политическое целое, политически централизованное государство (империя), соответствующие таким этапам, как зарождение — расцвет — упадок. Тем самым, возникновение империи становится следствием необходимости политической централизации полиэтничного государства в условиях его расширения с целью формирования единой политической воли.
Отличную от Н. Я. Данилевского концепцию цивилизационного развития разработал другой отечественный мыслитель — К. Н. Леонтьев. Он противопоставил «византинизм», общая идея которого, по его мнению, слагается из нескольких отдельных идей — религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных, аморфному, ни в чем конкретно не выраженному «славянству», т. е. заменил этноязыковую основу культурно-исторического типа духовным единством. В основе «византинизма» — «римский кесаризм, оживленный христианством», который «дал возможность новому Риму (Византии) пережить старый Италийский Рим на целую государственную нормальную жизнь...»5.
К. Н. Леонтьев полагает, что жизни человеческих обществ, государствам и целым культурным мирам свойственен триединый процесс: 1) первоначальной простоты; 2) цветущего объединения и сложности; 3) вторичного смесительного упрощения. Особое внимание автор уделяет второй стадии — цветущего объединения и сложности, соответствующей расцвету цивилизации. Он отмечает, что «...по внутренней потребности единства есть наклонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности». Отмечая, что «цветущий период Рима надо считать... со времен Пунических войн до Антонинов приблизительно», Леонтьев делает вывод: «Именно в это время выработалась та муниципальная, избирательная диктатура, императорство, которое так долго дисциплинировало Рим и послужило еще потом и Византии»6.
Логика перехода к третьей стадии, по мнению Леонтьева, проста: «Раз упростившись политически и сословно, неизбежным ходом дел, государству остается одно: или разлагаться, или сближаться с новыми чуждыми, непохожими элементами, — присоединять, завоевывать новые страны, носящие в себе условия дисциплины, и не спешить с глубоким внутренним единением всего, не становиться слишком однообразным, простым по плану или узору»7. Таким образом, идея о «вторичном смесительном упрощении» отражает характерную черту исчерпавшей свои творческие силы культуры — потребность во внешней экспансии для внутреннего развития.
Проанализировав концепцию К. Н. Леонтьева, отметим, что в развитии цивилизации для него приоритетным была духовная, идейная основа. Так, основой и Римской, и Византийской цивилизаций был «римский кесаризм», в Византии оживленный христианством, а затем в России преобразовавшийся в православный царизм. Империя для Леонтьева не обязательно отмечает упадок цивилизации — становление Римской империи — период расцвета, существование Византийской империи прошло через трансформацию прежних римских структур.
Сравнивая исторические судьбы выделяемых им «великих культур», О. Шпенглер отмечает, что каждая из них переживает возрастные этапы отдельного человека: у каждой культуры имеются свои детство, юность, зрелость и старость. Он выделяет пять основных этапов в жизни культур: 1) зарождение — культура зарождается внезапно, из неясных глубинных брожений и процессов, в момент, когда трансцендентный «прафеномен» оформляется в реализуемую культурой систему «прасимволов»; 2) рост — процесс становления, формирования и подъема культуры, ее саморазвития как свободной реализации системы «прасимволов» во всех сферах человеческой деятельности; 3) расцвет наступает, когда культура достигает зрелости как максимального раскрытия своих внутренних возможностей, но с этого момента ее духовные потенции исчерпываются, и она переходит от творческого созидания к механическому расширению, что и означает ее перерождение в «цивилизацию»; 4) упадок — стадия утрачивающей творческий дух городской цивилизации, когда «огонь души угасает» и начинается эпоха техники, экспансии, милитаризма и захватнических войн; цивилизация не творит ничего в духовном отношении нового и возвышенного, а лишь стремится к внешним приобретениям; 5) гибель — она может быть либо насильственной и фиксируемой (античность), либо означать полный застой и окостенение (Китай).
В своей работе «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории» О. Шпенглер пишет: «Я учу здесь пониманию империализма, окаменелые останки которого вроде египетской, китайской, римской империй, индийского мира, мира ислама могут сохраняться еще столетиями и тысячелетиями, оставаясь зажатыми в кулаки то одного, то другого завоевателя, — мертвые тела, аморфные, обездушенные человеческие массы, потребленный материал какой-то великой истории, — как типичного символа развязки. Империализм — это чистая цивилизация. В этой непреложной форме проявляется судьба Запада. У культурного человека энергия обращена вовнутрь, у цивилизованного вовне... Экспансивная тенденция — это рок, нечто демоническое и чудовищное, увлекающее позднего человека стадии мировых городов, заставляющее его служить себе и истощаяющее его, все равно, хочет он этого или нет, знает ли он об этом или нет»8.
Сравнивая различные культуры, О. Шпенглер делает вывод: «Империализм оказывается столь неизбежным результатом всякой цивилизации, что хватает народ за грудки и заставляет играть роль господина, если тот от нее уклоняется. Римская империя не была завоевана. Orbis terrarum сам сложился в эту форму и принудил римлян дать ему свое имя. ...Рим начиная со 146 г. приступил к превращению в провинции массы стран, лежащих на востоке, только потому, что иного средства против анархии более не существовало. Но следствием этого было также и то, что внутренняя форма Рима, последняя еще сохранявшаяся в неприкосновенности, распалась под таким бременем и вылилась в гракховские беспорядки. Этому не сыскать другого примера: финальная борьба за империю разворачивается уже не между государствами, но между двумя партиями одного города; однако форма полиса иного выхода и не допускала. ...На горизонте внезапно вырисовывается неизбежный финал эпохи — цезаризм»9.
Под цезаризмом О. Шпенглер понимает «такой способ управления, который, несмотря на все государственно-правовые формулировки, вновь совершенно бесформен по своему внутреннему существу. Не имеет совершенно никакого значения то, что Август в Риме, Хуанди в Китае, Амасис в Египте, Алп-Арслан в Багдаде облекают занимаемое ими положение стародавними
обозначениями. Дух всех этих форм умер. И потому все учреждения, с какой бы тщательностью ни поддерживались они в правильном состоянии, начиная с этого момента не имеют ни смысла, ни веса. Значима лишь всецело персональная власть, которой в силу своих способностей пользуется Цезарь или кто угодно на его месте. Это возврат из мира завершенных форм к первобытности, к космически-внеисторическому. На место исторических эпох приходят биологические периоды»10.
По мнению немецкого мыслителя, империя — неизбежный продукт цивилизации, ведущий не только к гибели культуры, но и к замене, уничтожению выработанных культурой традиционных ценностей взаимодействия людей и их сообществ. «Императорское время знаменует собой, причем во всякой культуре, конец политики духа и денег. Силы крови, первобытные побуждения всякой жизни, несломленная телесная сила снова вступают в права своего прежнего господства. Раса вырывается наружу в чистом и неодолимом виде: побеждает сильнейший, а все прочее — его добыча... С началом императорского времени нет больше никаких политических проблем. Люди удовлетворяются существующим положением и наличными силами. ...Это конец большой политики, некогда служившей заменой войне более духовными средствами, а теперь вновь освобождающей место войне в ее наиболее первозданном виде»11. «Imperium Romanum предстает уже не уникальным феноменом, а нормальным продуктом строгого и энергичного, свойственного масштабам мирового города, в высшей степени практичного интеллекта и характерной финальной стадией, уже неоднократно повторяющейся, но не идентифицированной до настоящего времени»12. Иррационализм, лежащий в основе концепции О. Шпенглера, выступающего за трансцендентное начало, придает ей пессимистический пафос — империя означает конец культуры народа, не способного к дальнейшему развитию, возврат к первобытному состоянию.
Во многом иную позицию в этом вопросе занял А. Тойнби, создавший концепцию саморазвития автономных, внутренне целостных, однако взаимодействующих между собой в мировом историческом процессе цивилизаций. Схема цивилизационного цикла, разработанная им, включает следующие этапы: 1) рождение — оформление некоторых групп людей в первичное жизнеспособное государственное сообщество; 2) рост — процесс культурного и общественного развития, в ходе которого раскрываются внутренние потенции сложившейся системы и отдельных людей как ее конкретных носителей; 3) надлом — внутренний раскол общества, потеря высших идеалов и общих целей, свидетельствующие о кризисе; 4) разложение — усиление конфронтации в обществе, вызванной отчужденностью «верхов» и «низов» при распространении экспансионизма и войн, ставящих цивилизацию перед угрозой внешнего удара; 5) гибель — обычно в результате внутреннего коллапса, сочетающегося с ударом извне13.
Динамика цивилизации — от рождения до гибели — определяется законом «Вызов — Отклик», по которому прогресс или регресс цивилизации связан с адекватностью Ответа регионального социума на Вызов исторической ситуации. Рождение цивилизации происходит спонтанно при наличии двух необходимых условий: 1) стимулирующей роли окружающей среды, представляющей Вызов; 2) наличие в социуме творческого меньшинства, способного дать необходимый Отклик на Вызов14. «Творческим меньшинством» является правящее меньшинство, в котором творческая способность человеческой природы находит удобный случай выразить себя в эффективных действиях на благо всех членов общества. Такая элита ведет за собой инертное, нетворческое большинство, полагающееся на заслуженный авторитет лидеров, на которых, тем самым, возлагается вся ответственность за судьбу общества. Таким образом, судьба цивилизации в первую очередь зависит от того, как долго «творческое меньшинство» составляющих ее компонентов продуцирует удачные Ответы на Вызовы внешнего мира.
Особый интерес вызывают стадии надлома и разложения цивилизации, основная причина которых, по мнению автора, лежит внутри самих цивилизаций. Правящее меньшинство признается «творческим» лишь в том случае, когда оно является носителем неких высших духовно-нравственных ценностей, на базе которых и строится живой контакт между «ведущими» и «ведомыми», он принципиально невозможен в случае применения насилия первыми по отношению ко вторым. Насильственность как раз и является сутью «нетворческой» деятельности, демонстрируя бездуховность применяющей силу группы, которая в таком случае именуется «господствующим меньшинством». Перерождение «творческого меньшинства» в «меньшинство господствующее» демонстрируется серией неудачных Ответов на внешние Вызовы, что и определяет надлом соответствующей цивилизации. Под «господствующим меньшинством» подразумевается правящее меньшинство, которое управляет в меньшей степени благодаря привлекательности, нежели силе. Промахи утрачивающей творческий потенциал элиты (перерождающейся во властвующее сообщество), оказывающейся неспособной справляться со своими обязанностями и в то же время не желающей расставаться с властью и привилегиями, приводят общество в состояние кризиса. Ответом на недовольство масс становится создаваемая властями военно-бюрократическая машина принуждения — «универсальное государство» как аппарат насилия, обеспечивающий власть «господствующего меньшинства».
Универсальное государство — это государство, охватывающее всю или почти всю область распространения той или иной цивилизации, представляющее собой последний этап жизни цивилизации, время упадка, когда творческие силы цивилизации уходят на внешнюю экспансию и внутреннее устроение этого государства15. Создание империй — это средство самосохранения меньшинства и сохранения цивилизации. От господствующего меньшинства на этом этапе отпадает так называемой внутренний пролетариат, в среде которого усиливается недовольство и растет протест, что и ведет к формированию универсальной (вселенской) церкви (например, в Римской империи — христианства). И если империя, созданная господствующим меньшинством, обречена на гибель, то универсальная церковь, созданная внутренним пролетариатом, становится мостом и основой для новой цивилизации.
Наряду с внутренним пролетариатом, формируется внешний, под которым Тойнби, анализируя пример Римской империи, понимал варваров. По его мнению, «единственное средство, обещающее цивилизации хоть какую-то защиту, — это полное разделение двух несовместимых обществ. Политика необщения действительно наиболее приемлема для имперского правительства. Однако на практике произвольно прочерченная военная граница не может долго оставаться неприкосновенной, поскольку и варвары, и жители приграничных внутренних областей, как правило, находятся вне сферы действия официального правительственного контроля». Подобные соображения побуждали «правителей универсальных государств вербовать варваров в имперские войска и расселять их во внутренних районах империи. В этом отношении характерна политика Рима, кроме того, политика империи Хань, а также политика османов. Однако подобное средство защиты чревато катастрофой, которую-то и призвано было предотвратить»16. Таким образом, внутренний и внешний пролетариат становились могильщиками создавших империи цивилизаций.
Однако, как считает А. Тойнби, «империи, подобно Римской или Китайской, дарующие мир на века некогда охваченным войной странам, завоевывают вследствие этого столь сильную признательность и уважение своих подданных, что последние просто не мыслят свою жизнь вне Империи и, соответственно, не могут поверить, что когда-нибудь этот, по всей видимости, незаменимый институт может прекратить свое существование. Когда исчезла Римская империя, ни современники, ни последующие поколения, отказываясь смотреть в лицо фактам, так и не согласились признать ее кончину; они при первой возможности постарались привести эти факты в соответствие со своими иллюзиями, вызвав к жизни дух римской империи»17.
Современный российский исследователь В. Л. Цымбурский особо остановился на характеристике так называемой постцивилизационной, или постформативной фазы в развитии человеческих обществ, следующей за фазой «универсальных государств», или «мировых империй», когда цивилизация — высокая культура, увлеченная императивом пространственного расширения, в наибольшей степени приближается к политическому овладению всем известным и доступным ей миром, к переработке его в свое жизненное пространство18.
Если для О. Шпенглера по ту сторону каждой мировой империи попросту конец «высокой культуры», превращение бывших ее народов (или народа), даже если они сохраняют свои имена и традиции, в поток атомарных, случайных фактов без всякого формообразующего сюжета, то А. Тойнби, напротив, склонен в гибели универсального государства усматривать возможность формирования дочерней цивилизации. Такая цивилизация-наследница выдвигает над собою в качестве своей сакральной вертикали мировую религию, которая, сложившись в лоне гибнущей Империи, становится личинкой нового общества.
Собственные логические построения В. Л. Цымбурского выглядят следующим образом. В истории ряда геокультурных сообществ, привычно трактуемых как цивилизации, явственно проглядывает первичный сюжетный цикл с четким и довольно однотипным строением, хотя и допускающий при своем воплощении весьма изощренные вариации. Будучи реализован до конца, этот цикл — часто после большой («мировой») смуты — венчается попыткой создать универсальное государство, Мировой Город, попыткой, которая иногда опирается на предвидения пророков, идеологов и философов данной цивилизации, звучавшие с ранних веков ее существования. Гибель же этой Империи Позднего Часа может иметь двоякие последствия. В одной версии разрушение сложных социальных форм, архаизация и редукция к упрощенному аграрно-сословному укладу могут сочетаться с религиозно-идеологическим обновлением, с зарождающимся новым самосознанием Особого Человечества на Особой Земле. В этом случае мы говорим, что возникает новая цивилизация, обнаруживающая свой формативный цикл с самого начала. В другой же версии после имперской катастро фы продолжает существовать все то же (с устойчивой идентичностью и с прежним или несколько модифицированным культурнорелигиозным антуражем) сообщество, которое некогда создало погибший Мировой Город. Только теперь в его истории начинается эпоха, которую автор называет постформативной (постцивилизационной).
Источниками серьезных системных новшеств в идеологии и политике постцивилизаций становятся, как правило, вызовы внешнего мира, сопровождаемые потоками информации, идущими из него же. Постцивилизации сущностно закрыты для внутренне детерминированных спонтанных перестроек. Однако это отнюдь не снижает их способность пластично реагировать на внешние возбуждения, потому что основные дестабилизирующие проблемы встают перед такими человечествами как раз извне, возмущая или грозя возмутить гомеостатичность освященной парадигмы, определявшей для этих народов параметры «истинного существования».
Взяв за основу анализируемую концепцию, предположим, что при достижении имперской фазы у цивилизации возникают три альтернативы: 1) гибель мировой империи, завершение цивилизационного цикла и формирование на базе прежней новой цивилизации по известной схеме (римско-западноевропейский вариант, ставший классическим еще в тойнбианской интерпретации); 2) «окостенение» империи, консервация имперской фазы (вариант автаркических систем, например, Китайской); 3) гибель мировой империи, ведущая не к завершению цивилизационного цикла, а лишь к наступлению фазы постцивилизации, попадающей в орбиту влияния формирующей новую мировую империю цивилизации (азиатские постцивилизации, прежде всего исламская, мировая империя которой — халифат — формально прекратила свое существование в 1924 г.).
ОБЩЕНАУЧНЫЙ
Основателем парадигмального подхода считается американский философ и историк Томас Кун. Однако ученый использовал его только для описания деятельности научного сообщества. Наша задача состоит в том, чтобы показать его принципиальную применимость в исследовании других сфер духовной и социальной жизни.
Слово «парадигма» состоит из двух греческих слов: «para» — сверх, через, около ; «deigma» — образец, пример, проявление . В широком философском смысле оно означает «сверхобразец» («абстрактный образец», «идеальный эталон»), который материализуется (опредмечивается) через реально существующие явления, предопределяя их структуру.
Список литературы Цивилизационный подход к исследованию сложных территориальных систем
- Афонин Э. А., Бандурка А. М., Мартынов А. Ю. Великая коэволюция. Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ. Киев, 2003.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.
- Леонтьев К. Н. Поздняя осень России. М., 2000.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. Т. 1. Гештальт и действительность. М., 1998.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М., 1998.
- Мироненко Н. С. Страноведение: теория и методы. М., 2001.
- Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: сборник/пер. с англ. М., 2003.
- Цымбурский В. Л. Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над глобусом XXI века)//Pro et Contra. 2000. Т. 5, № 3. С. 178-183.