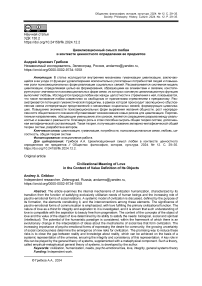Цивилизационный смысл любви в контексте ценностного определения ее предметов
Автор: Грибков Андрей Армович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются внутренние механизмы гуманизации цивилизации, заключающейся в ее уходе от функции удовлетворения исключительно утилитарных потребностей людей и повышении роли психоэмоциональных форм реализации социальных связей. Рассматривается системная модель цивилизации, определяемая целью ее формирования, образующими ее элементами и связями, констатируется рост значимости психоэмоциональных форм связи, из которых основную цивилизационную функцию выполняет любовь. Исследуется природа любви как жажды целостности и стремления к ней, показывается, что такое понимание любви совместимо со свободным от прагматизма стремлением к прекрасному. Рассматривается потенциал гуманистической парадигмы, в рамках которой происходит эволюционно обусловленная смена интерпретации представлений о механизмах социальных связей, формирующих цивилизацию. Повышение значимости психоэмоциональных форм выражения желания общности, рост неопределенности общественного сознания обуславливают возникновение новых рисков для цивилизации. Перспективным направлением, обещающим уменьшение этих рисков, является сокращение разрыва между реальностью и знанием о реальности. Ключевую роль в этом способна сыграть общая теория систем, дополненная метафизической составляющей. Такая теория, получившая название эмпирико-метафизической общей теории систем, разработана автором.
Цивилизация, гуманизация, потребности, психоэмоциональные связи, любовь, целостность, общая теория систем
Короткий адрес: https://sciup.org/149146699
IDR: 149146699 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.2
Текст научной статьи Цивилизационный смысл любви в контексте ценностного определения ее предметов
Независимый исследователь, Зеленоград, Россия, ,
Independent researcher, Zelenograd, Russia, ,
Введение . Одной из ключевых тенденций развития цивилизации в последние несколько десятилетий является ее неуклонная гуманизация (Лапина, Ромах, 2007; Межуев, 2013). Поскольку цивилизация – это форма группового существования людей, обеспечивающая посредством социальных механизмов удовлетворение их биологических, социальных и интеллектуальных (духовных) потребностей (Грибков, 2024), то центральное место в данном процессе занимает гуманизация социальных отношений. Существует упрощенное представление, что содержанием гуманизации является сглаживание социальных противоречий посредством «умиротворения общественных отношений и оказания социального вспомоществования» (Лапина, Ромах, 2007). По нашему мнению, процесс гуманизации социальных отношений относится не к содержанию цивилизации, а к интерпретации формирующих ее механизмов. Эта новая интерпретация, формулируемая в виде гуманистической парадигмы (так мы ее назовем), сформировалась сравнительно недавно, когда для многих стран мира острота социальных противоречий снизилась и имеют место выраженные тенденции их преодоления.
В контексте гуманистической парадигмы происходит эволюционно обусловленная смена интерпретации представлений о механизмах социальных связей, формирующих цивилизацию. Если раньше основным было прагматическое представление о механизмах социальных связей, основанное на достижении цели цивилизации в виде удовлетворении утилитарных потребностей людей, то постепенно их место занимает любовь – форма проявления потребностей, соответствующая психоэмоциональному уровню социальных и межличностных отношений.
В данной статье мы рассмотрим комплекс вопросов, возникающих при описании цивилизации в рамках гуманистической парадигмы, в частности: представим системную модель цивилизации; определим понятие предмета любви и его ценности; рассмотрим связи, формирующие цивилизацию, представляющие различные формы проявления потребностей. В заключение проанализируем потенциал гуманистической парадигмы для развития цивилизации.
Системная модель цивилизации: цель, элементы и связи . Наиболее простым и понятным является представление систем в рамках общей теории систем – «система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов…» (Bertalanffy, 1969). Каждому взаимодействию может быть поставлена в соответствие определенная связь, зависящая от связываемых элементов и характера формируемой связи. Элементами системной модели цивилизации являются как отдельные люди, так и их общности, объединенные потребностями, обусловленными их социальным положением, материальным благополучием и другими факторами.
Для познавательных моделей описание системы, наряду с элементами и связями, также может включать определение цели системы. В случае цивилизации цель известна – удовлетворение потребностей людей: биологических, социальных и духовных (интеллектуальных).
Формы проявления потребностей людей, удовлетворению которых служит цивилизация, по мере развития общества и повышения общего уровня благосостояния изменяются, становятся менее утилитарными. Для цивилизации, существующей в условиях острого дефицита материальных благ (нехватка питья и еды, лекарств, одежды, жилья и т. д.), потребности людей выражаются в непосредственном удовлетворении этого дефицита и устранения (главным образом, посредством социально-экономических механизмов) причин, его порождающих. При более высоком уровне общественного развития, когда объем доступных материальных благ уже допускает заметное социальное неравенство, для привилегированных классов значимыми становятся интеллектуальные и духовные потребности. Все большая часть ресурсов расходуется (нередко в ущерб удовлетворения утилитарных потребностей нижних общественных страт) на науку, искусство и культуру в целом. Полотно цивилизации, отражающее текущее состояние развития общества, складывается в лоскутное одеяло из областей с различным уровнем материального благосостояния, разными потребностями и формами их проявления. Кокон эгоизма способен изолировать благополучные области (страны, общественные страты) от общей менее благоприятной среды с острыми неудовлетворенными утилитарными потребностями и сформировать условия для проявления потребностей (в первую очередь, духовных и интеллектуальных) в психоэмоциональных формах любви – ненависти или эмпатии – апатии.
Ненависть, очевидно, бесплодна, не способна породить что-либо новое и ценное. Апатия (безразличие, отсутствие эмоций) не предполагает желания удовлетворения потребностей, а значит, также не имеет никакой цивилизационной роли. Отдельного рассмотрения заслуживает эмпатия. Способно ли сочувствие, отожествление чужих потребностей с собственными стать значимым фактором развития? По нашему мнению, нет.
Движущей силой развития общества являются потребности людей, ради удовлетворения которых люди трудятся, воюют и мирятся, формируют между собой различные отношения-связи.
При этом каждый человек или группа (общность по потребностям) борется за себя, зная свои потребности, ощущая их изменения и эволюцию, сопоставляя значимость различных потребностей и возможности их ограничения или обмена на другие, доступные для текущего уровня развития общества. Продвижение потребностей других людей, неизбежно неточно интерпретируемых, недостаточно настойчивое и ограниченное по времени, в долгосрочной перспективе не может быть успешным. Кроме того, развитие, основанное исключительно на эмпатии, противоречит логике эволюции, согласно которой побеждает сильнейший (более приспособленный, способный лучше бороться за удовлетворение своих потребностей), а не тот, кто способен вызвать больше сочувствия. Эволюционная функция эмпатии заключается в повышении чувствительности группы (общности) к изменению внешних условий (возникающие опасности или, напротив, возможности). Эта способность ощущать чужие эмоции, безусловно, вышла за границы своей эволюционной функции и приобрела альтруистические черты, однако барьер эмпатии на пути удовлетворения своих потребностей всегда преодолим, если награда достаточно высока.
Ключевую роль в грядущем развитии человеческой цивилизации может сыграть только психоэмоциональная форма выражения потребностей в виде любви. Любовь (во всех ее формах) является выражением потребности в предмете любви. Эта потребность является глубоко личной и одновременно связана с формированием связи с другим человеком (людьми, общностями и т. д.). Любовь может дополняться эмпатией, однако в этом случае эмпатия приобретает иную эволюционную функцию: не индивидуального выживания в условиях группы, а углубления интеграции группы (пары), повышающего ее устойчивость и увеличивающего потенциал развития.
Природа любви . Что такое любовь? Однозначное формальное определение любви дать достаточно сложно, поскольку существует большое разнообразие видов любви, объединение которых общим понятием в некоторых случаях представляется не в полной мере обоснованным. Толковый словарь дает несколько определений любви: «глубокое эмоциональное влечение»; «чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности»; «постоянная, сильная склонность, увлеченность»1.
Осмысление природы любви показывает, что в ее основе лежит «жажда целостности и стремление к ней» (Платон, 2007: 122). Эта целостность достигается не только посредством удовлетворения чувственного влечения, но и, например, в виде дружбы. Имеет право на существование мнение Аристотеля, что «… дружба в любви предпочтительнее чувственного влечения. Любовь, таким образом, исходит скорее от дружбы, чем от чувственного влечения. Но если больше всего от дружбы, то дружба и есть цель любви. Следовательно, чувственное влечение или вообще не есть цель, или оно есть ради дружбы» (Аристотель, 1978: 247). Любовь, дружба – лишь различные формы реализации стремления к целостности. То же внутреннее содержание имеет любовь к родным (родителям, детям и т. д.), к своей стране, нации, к людям, вместе с которыми человек входит в общности разного масштаба.
Любовь, являющаяся движущей силой процессов формирования общностей людей, должна учить «стыдиться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному» (Платон, 2007: 106). Это является необходимым условием формирования и существования любой общности, достижения блага для него. Иногда благо одной общности не является благом для других. В этом случае любовь, созидательная (или кажущаяся созидательной) для этой общности, становится разрушительной для другой или других. Моральная оценка такого противостояния затруднительна, поскольку если общность достаточно велика (страна, нация, раса), то она формирует собственную систему моральных ценностей. В этом случае расизм, нацизм и другие конфронтационные идеи могут быть воплощены в жизнь. Обычно эта жизнь оказывается не очень долгой и успешной, поскольку локализация любви в пределах ограниченной общности противоречит ее смыслу, заключающемуся в обретении человеком целостности во всех общностях, к которым он принадлежит, вплоть до человечества в целом.
Предлагаемое определение природы любви как жажды целостности и стремления к ней может показаться излишне прагматичным, не учитывающим «стремления к прекрасному», не преследующему никаких корыстных целей. Но что является критерием прекрасного? Что и почему мы считаем красивым?
Говоря о прекрасном (красивом), мы всегда имеем в виду определенный объект или свойство объекта. При этом любой объект существует не сам по себе, а является частью некоторой композиции, то есть входит в какую-то систему. Красота объекта или его свойства не могут быть определены вне этой системы. Так, отдельный предмет одежды должен сочетаться со всей остальной одеждой по цвету, стилю и размеру. Комплиментарность (сочетаемость) объекта или свойства с системой (точнее, многими системами), в которую он входит, в результате порождает целостность этой системы (систем). Указанная комплементарность многообразна. В том числе она требует соответствия форм и законов объекта системам, в которые он входит.
Таким образом, мы пришли к тому, что свободное от прагматизма стремление к прекрасному в результате сводится к желанию целостности, без которой невозможна гармония, которая и есть наиболее объективный критерий красоты: «… красота есть знак потенциальной гармонии бытия, залог возможности, мыслимости его актуальной, сполна осуществимой гармонии… Красота есть только отблеск “рая”, онтологической укорененности всей реальности в божественном всеединстве…» (Франк, 1990: 433).
Ценность предмета любви . Безусловной характеристикой любви, консенсусной для максимально широкого спектра психологических исследований, посвященных любви, является ее определение как чувства. Чувства, согласно определению А.Н. Леонтьева, относятся к особой группе эмоций, которым присущ отчетливо выраженный предметный характер, «возникающий в результате специфического обобщения эмоций, связывающегося с представлением или идеей о некотором объекте»1. Чувство включает в себя субъективное оценочное суждение по отношению к какому-либо реальному или абстрактному объекту.
Объект, к которому обращено чувство любви, называют объектом или предметом любви. Более корректным является использование термина предмет любви, поскольку он интересует нас не как объективная реальность (в этом случае мы бы говорили об объекте любви), а как совокупность значимых для субъекта (того, кто любит) свойств. Обобщением этих значимых свойств является способность предмета любви удовлетворять потребности субъекта в утилитарной или психоэмоциональной форме.
Определение ценности предмета любви включает в себя две составляющие.
Во-первых, как известно, всякая ценность заключается в способности удовлетворять потребности. В зависимости от вида любви это могут быть биологические, социальные или духовные (интеллектуальные) потребности, реализуемые преимущественно в эмоциональной форме. Если предмет любви не удовлетворяет потребности человека (общности людей), то он неизбежно должен перестать быть предметом любви. Безответная любовь (а ответом предмета любви является удовлетворение потребностей) – психоэмоциональное расстройство, которое необходимо преодолеть. Это не всегда удается. В частности, на половые отношения значимое влияние оказывает повышенный гормональный фон организма человека. В целом в межличностных отношениях объективно непригодный для любви предмет может длительное время сохранять статус предмета любви в рамках человеческого сознания, отказывающегося в силу различных (субъективных эмоциональных) причин коррелироваться с реальностью. Распространенность такого рода патологий является дополнительным напоминанием, что любовь направлена не на реально существующий объект, а на предмет любви, существующий в сознании любящего субъекта (человека или общности людей) и отражающий свойства объекта любви неполно, неточно или даже ошибочно.
Во-вторых, ценность любого материального или нематериального блага определяется в контексте порождающей его системы. Любое благо должно соответствовать логике и организации своей системы. То, что ни с чем не сочетается (или мало с чем сочетается), не способно структурно и организационно встраиваться, не имеет ценности для системы, в том числе для потребления. Такое материальное или нематериальное благо «несъедобно», а значит, не может удовлетворять потребности.
Потребности, желания и любовь – три уровня связей в цивилизации . Рассматривая любовь в качестве формы проявления потребностей людей, обеспечивающей формирование общностей и в конечном итоге способствующей социальной интеграции людей, мы констатировали лишь два из трех существующих уровней описания связей в цивилизации. На самом нижнем базовом уровне находятся потребности человека, удовлетворению которых служит цивилизация. На самом высоком уровне находится любовь, представляющая собой форму проявления потребностей, определяемую не ими самими, а связанными с ними эмоциями, направленными на различные предметы любви – отдельных людей, различные общности или даже абстрактные идеи.
Промежуточное положение в указанной иерархии уровней описания связей в цивилизации занимают эмоции, которые являются ключевым механизмом, инициализирующим весь механизм потребления за счет формирования желаний. Неотъемлемой функцией человека в цивилизации является генерация потребностей. Человек, реализуя свое свойство субъектности, заключающееся в способности быть актором собственных изменений и изменений окружающего мира, использует цивилизацию в качестве инструмента достижения своих целей, заключающихся в удовлетворении побуждаемых желаниями потребностей.
Онтологическое описание цивилизационных связей включает в себя исключительно формирование общностей для удовлетворения потребностей. Гносеологическое описание предполагает использование для представления механизмов функционирования цивилизации также понятий желания и любви как психоэмоциональной формы выражения потребностей, инициируемых желаниями.
Присущи ли желания и любовь исключительно человеку? Вероятно, нет. Наш индивидуальный опыт свидетельствует о том, что в большей или меньшей степени желания и любовь присущи всем существам, наделенным субъектностью. Наличие желаний у животных (которые всегда обладают субъектностью) – бесспорный факт. Что касается способности любить, то исчерпывающей аргументации, подтверждающей эту способность у кого-либо, помимо людей, в настоящее время нет. В значительной мере ответ на данный вопрос зависит от интерпретации понятия любви.
Если исходить из известных в настоящее время формальных определений, то животные способны на любовь. Они способны на «глубокое эмоциональное влечение», «чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности», «постоянную сильную склонность, увлеченность». С другой стороны, если рассматривать любовь в социальном контексте, то есть как форму выражения желания общности, то любовь должна быть локализована в пределах различных человеческих общностей (реальных и духовных), наибольшей из которых является человечество в целом.
Оппонируя представленной выше интерпретации любви, можно задать несколько вопросов. А как же любовь к знаниям? Или любовь к истине? Или любовь к природе? Возможным ответом на них является тот факт, что человек (и все человечество) интеллектуально (в том числе эмоционально) существует не в реальном мире, соответствующем онтологическому описанию, а в мире познавательных моделей, обобщенных понятий, эпистемологических симулякров, сформированных в рамках принятой в цивилизации парадигмы: морально-этической, научной и др. Это означает, что мы любим не реальные знания или истину, а их принятую интерпретацию, не природу, а ее познавательный образ, принятый в цивилизации в настоящее время (и с развитием общества мы начинаем любить «другую» природу «по-другому»). А это значит, что наша любовь иная, чем любовь собак, кошек или слонов. Возможно, что животные, как и мы, существуют в своем иллюзорном мире, но их иллюзии отличаются от наших.
Потенциал гуманистической парадигмы . Является ли переход от цивилизации, служащей удовлетворению утилитарных потребностей, к цивилизации, определяемой психоэмоциональными связями людей и общностей, позитивным явлением? Необязательно, но такой переход является естественным, неизбежным и его симптомы мы уже наблюдаем. Для формирующейся цивилизации складываются новые, ранее неактуальные риски, обусловленные увеличением разрыва между реальностью общества и его сложившимся в рамках общественного сознания представлением, которое является определяющим при определении направления развития и текущих тенденций. Психоэмоциональные механизмы формирования общности, в том числе основанные на любви, характеризуются субъективностью, неоднозначностью, возможно даже формирование одновременно нескольких психоэмоциональных реальностей – вариантов общественного сознания.
Любовь является наименее опасной и агрессивной формой желания общности и поэтому может и, вероятно, будет служить основой для будущей цивилизации.
Развитие технологий в среднесрочной перспективе сформирует условия для цивилизации когнитивных технологий (Грибков, 2024), в которой основной удовлетворяемой утилитарной потребностью будут искусственные когнитивные системы для интеллектуального управления машинами для производства материальных благ, а результатом удовлетворения этой потребности – замещение людей искусственными когнитивными системами в интеллектуальном управлении машинами. Эта цивилизация, где основной функцией человека выступит генерация потребностей, неизбежно будет ориентирована на духовные (интеллектуальные) потребности, проявляющиеся в психоэмоциональных формах, в первую очередь – в форме любви. В результате основной для такой цивилизации станет гуманистическая парадигма, ядром которой является духовное и интеллектуальное развитие человека, расширение его творческого потенциала.
Формирование новой цивилизации, особенно такой, в которой общность строится на основе психоэмоциональных связей, неизбежно столкнется с существенными сложностями. Фундаментальной причиной этих сложностей, по нашему мнению, является радикальное расхождения реальности и существующих знаний о ней. Современная теория познания во всех предметных областях, начиная с теоретической физики и заканчивая психологией, предлагает искаженные или ложные картины мира.
Стремление человека к общности с другими людьми является элементом общего движения к целостности. Реализацией ее служит формирование целостного представления о мироздании: возможно, неточного в деталях, но непротиворечивого и детерминированного. Наиболее простым инструментом обеспечения целостного представления является описание мироздания исходя из его изоморфизма, то есть подобия форм и законов на различных уровнях, в различных предметных областях мироздания. Последовательно и детально проблемой целостности мироздания и явлением изоморфизма занимается только общая теория систем (Садовский, 1971; Уемов, 1978). Она имеет большое число вариантов реализации, один из которых (эмпирико-метафизическая общая теория систем) разработан нами (Грибков, 2023).
Формирующаяся цивилизация когнитивных технологий, в которой все большую роль будут играть психоэмоциональные формы выражения желания общности, требует создания теории познания, которая позволит нарисовать непротиворечивую и детерминированную картину реальности. По нашему мнению, это может быть сделано только на базе общей теории систем, которая содержит в себе метафизическую составляющую, а также широкий инструментарий средств познания мироздания через проявления изоморфизма в виде паттернов форм и законов, вторичных (в полной мере недетерминированных) законов и правил. Разработанная нами эмпирико-метафизическая общая теория систем соответствует указанным выше требованиям.
Заключение . Резюмируем итоги наших рассуждений:
-
1. Гуманистическая парадигма предполагает эволюционно обусловленную смену интерпретации представлений о механизмах социальных связей, формирующих цивилизацию. Место утилитарных потребностей занимают формы проявления потребностей, соответствующие психоэмоциональному уровню социальных и межличностных отношений.
-
2. Ключевую роль в грядущем развитии человеческой цивилизации может сыграть только психоэмоциональная форма выражения потребностей в виде любви.
-
3. Осмысление природы любви показывает, что в ее основе лежит жажда целостности и стремление к ней.
-
4. Определение ценности предмета любви включает в себя две составляющие. Во-первых, всякая ценность заключается в способности удовлетворять потребности. В зависимости от вида любви это могут быть биологические, социальные или духовные (интеллектуальные) потребности, реализуемые преимущественно в эмоциональной форме. Во-вторых, ценность любого материального или нематериального блага определяется в контексте порождающей его системы.
-
5. Гносеологическое описание цивилизационных связей предполагает использование для представления механизмов функционирования цивилизации не только общностей для удовлетворения потребностей, но также понятий желания и любви как психоэмоциональных форм выражения потребностей, инициируемых желаниями.
-
6. Развитие технологий в среднесрочной перспективе сформирует условия для цивилизации когнитивных технологий. Эта цивилизация, где основной функцией человека станет генерация потребностей, неизбежно будет ориентирована на духовные (интеллектуальные) потребности, проявляющиеся в психоэмоциональных формах, в первую очередь – в форме любви. Это создает новые риски для общественного развития.
-
7. Возможным средством уменьшения подобных рисков является сокращение разрыва между реальностью и знанием о реальности. Ключевую роль в этом должна сыграть общая теория систем, дополненная метафизической составляющей. Такая теория, получившая название эмпирико-метафизической общей теории систем, разработана нами.
Список литературы Цивилизационный смысл любви в контексте ценностного определения ее предметов
- Аристотель. Сочинения : в 4 т. М., 1978. Т. 2. 687 с.
- Грибков А.А. Человек в цивилизации когнитивных технологий // Философия и культура. 2024. № 1. С. 22-33. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2024.1.69678.
- Грибков А.А. Эмпирико-метафизический подход к построению общей теории систем // Общество: философия, история, культура. 2023. № 4 (108). С. 14-21. https://doi.org/10.24158/fik.2023.4.1.
- Лапина Т.С., Ромах О.В. Культура в гуманизации цивилизации // Аналитика культурологии. 2007. № 1 (7). С. 53-59.
- Межуев В.М. Гуманизм и современная цивилизация // Человек. 2013. № 3. С. 5-16.
- Платон. Сочинения : в 4 т. СПб., 2007. Т. 2. 626 с.
- Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974. 280 с.
- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 272 с.
- Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. 608 с.
- Bertalanffy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y., 1969. 289 p.