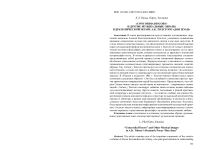"Concordia discors" и другие музыкальные образы в драматической поэме А.К. Толстого "Дон Жуан"
Автор: Пильд Леа Лембитовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из важных составляющих творческой эволюции Алексея Константиновича Толстого, уделявшего повышенное внимание осмыслению музыки как внеземного начала и как вида искусства. В статье делается попытка показать, что представление об онтологической картине мира и музыкальной природе вселенной восходит у Толстого не только к романтической эстетике и философии, как принято считать в исследованиях, но и к средневековым христианским идеям, которые согласуются со временем утопической историософии поэта. В поэме встречается сочетание «несогласимое согласно» представляющее собой русский перевод слегка измененной формулы «concordia discors» (несогласное согласие). Формула восходит к античности и означает гармонизацию несовместимых (противоречивых) предметов, явлений, понятий, образов. Так, Сатана у Толстого претендует на тотальное господство над вселенной («Господь» «только для красы»), а небесные ангелы полагают, что несогласованность явлений входит в изначальный и не постигаемый никем божественный замысел. В «Письме к издателю» 1862 г. Толстой пояснил общий смысл своего сочинения следующим образом: «Это был случайный и невольный протест против практического направления нашей беллетристики». Представляется, что в образе Сатаны можно увидеть легкий намек на нигилистов - современных «новых людей». Сатана у Толстого имитирует забвение своих истоков, однако небесные духи восстанавливают истину. Другое понятие, восходящее к ранней христианской литературе и актуальное для поэта, - это понятие «любви» как единого божественного начала, вносящего порядок в структуру музыкальной вселенной. Как показал Л. Шпитцер, в раннем христианском средневековье, в частности, в богословских сочинениях Августина Блаженного (несомненно известных Толстому), была переосмыслена концепция пифагорейско-платоновской музыкальной гармонии. Согласно мысли ученого, пифагорейцы идентифицировали музыку с космическим порядком, а христианские философы с музыкой отождествляют любовь.
Несогласное в согласном, музыкальные образы, средневековые христианские идеи, космический порядок, музыкальная гармония
Короткий адрес: https://sciup.org/149136578
IDR: 149136578 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00041
Текст научной статьи "Concordia discors" и другие музыкальные образы в драматической поэме А.К. Толстого "Дон Жуан"
На протяжении всей творческой эволюции Алексей Константинович Толстой уделял повышенное внимание осмыслению музыки как внеземного начала и как вида искусства. Благодаря тому, что идеалом писателя был мир средневекового рыцарства и домонгольского прошлого России [Ямпольский 1969, 14, 15; Немзер 2013, 589-609] (ср.: «...для Толстого Киевская Русь и Новгород были «свободными» государствами с господством аристократии» [Ямпольский 1969, 15]), в его стихах, прозе и драмах частотностью обладают наименования инструментов, связанных по тем или иным признакам с идеализируемой утопической реальностью: гусли, кимвалы, лютня. Гусли, несмотря на яркую национальную окраску этой реалии, ассоциируемой с былинным миром, - это иногда универсальный вселенский инструмент, который напрямую соотносится у Толстого с идеей мировой музыкальной гармонии. Так, например, в стихотворении «Не ветер, вея с высоты...», опубликованном в 1858 г, душа поэта сравнивается с гуслями как бы замещающими лиру: «Она тревожна как листы, / Она как гусли многострунна» [Толстой 1969,1, 81]. Мы сделаем попытку показать, что представление об онтологической картине мира и музыкальной природе вселенной восходит у Толстого не только к романтической эстетике и философии (ср.: «Другой мотив поэзии Толстого также связан с одним из положений романтической философии - о любви как некоем бо- жественном мировом начале, которое недоступно разуму, но может быть прочувствовано человеком в его земной любви. В соответствии с этим Толстой в своей драматической поэме превратил Дон Жуана в подлинного романтика» [Ямпольский 1969, 17]), но и к средневековым христианским идеям, которые согласуются со временем утопической историософии поэта.
Оценивая свое отношение к разным видам искусства, Толстой в письме к С.А. Миллер 1851 г. особо выделяет именно музыку как тонкий и ускользающий мир, подлежащий разгадке, но для него, к сожалению, изнутри закрытый: «Я рожден художником не только для литературы, но для пластических искусств. <.. .> Музыка одна для меня недоступна; это - великолепный рай, который я вижу издали, который я отгадываю вокруг которого я хожу - и не могу взойти в него [Толстой 1969, IV, 268]. Ср. также в письме 1853 г: «Если бы мне оставалось только десять лет жизни, я бы охотно отдал половину, чтобы обладать красивым голосом или большим музыкальным талантом» [Толстой 1969, IV, 277].
Известно, что на вторую половину 1850-х гг. приходится самое интенсивное время поэтического творчества А.К. Толстого. В этот же период начинаются реформы Александра II, а его коронация происходит в 1856 г, когда отмечался столетний юбилей Моцарта, венского классика, памяти которого Толстой посвятил поэму «Дон Жуан», задуманную в конце 1858 или начале 1859 г. Примечательно, что к музыкальным темам во второй половине 1850-х гг. обращается ряд известных русских писателей, не принимавших, как и Толстой, политическую идеологию революционных демократов: это и Полонский в его поэме «Кузнечик-музыкант»(см.:[Пильд]), и Лев Толстой в повести «Альберт» и Тургенев в «Отцах и детях». Во всех названных текстах появляется имя Моцарта (в повести «Альберт» (1858) Льва Толстого главный герой исполняет финал первого акта из оперы «Дон Жуан», а в «Отцах и детях» (1861) Тургенева - Катя, сестра Анны Сергеевны Одинцовой, играет сонату Моцарта), или же, как у Полонского, реминисценции из маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». По-видимому, вспомнить именно Моцарта литераторов побудил не только столетний юбилей композитора, а также многочисленные концерты в Петербурге и Москве, приуроченные к этой дате и освещаемые периодикой. Не менее важным импульсом могло послужить высказывание Чернышевского в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», защищенной в 1855 г:
«Прекрасное в действительности заключает в себе много непрекрасных частей или подробностей». -Ав искусстве разве не то же самое, только в гораздо большей степени? Укажите произведение искусства, в котором нельзя было бы найти недостатков. Романы Вальтер Скотта слишком растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сантиментальны и очень часто растянуты <...> О музыке нечего и говорить: Бетховен слишком непонятен и часто дик; у Моцарта слаба оркестровка; у новых композиторов слишком много шума и трескотни. Без- укоризненная опера, по мнению знатоков, одна - “Дон-Жуан”; не знатоки находят его скучным» [Чернышевский 1949, 51].
В рецензии на «Песни разных народов» (1854) в переводе Н. Берга Чернышевский оказывается не столь радикальным в оценке вокальной музыки Моцарта: «Мы не думаем ставить, как это делают многие, цыганского хора выше оперы или концерта, “Ай, вдоль по улице молодчик идет” выше моцартовской или россиниевской арии, не считаем “Древних русских стихотворений” Кирши Данилова выше “Стихотворений Пушкина”» [Чернышевский 1949,294]. Впрочем, это высказывание, согласно примечанию комментатора Чернышевского, носило, по-видимому полемический характер и могло не отражать подлинного отношения автора рецензии к Моцарту: «Выпад в адрес “молодой редакции”, увлекавшейся цыганским пением (заметим, впрочем, что цыгане пели и русские народные песни и романсы). Возможно, что имеется в виду персонально А.А. Григорьев, автор двух классических романсов: “Цыганской венгерки” и “О, говори хоть ты со мной...”» [Чернышевский 1949, 294].
В приведенной выше цитате нельзя не заметить известного знакомства автора с музыкально-критической литературой. На сложность поздних сочинений Бетховена, особенно последних квартетов и фортепианных сонат, указывали в 1850-е гг. некоторые музыкальные критики и биографы Моцарта (см.: [Иванов-Борецкий 1927, 53]); оперу «Дон Жуан» действительно считали лучшим произведением композитора многие профессиональные музыканты и музыкальные дилетанты. Кроме того, в 1853 г. в журнале «Пантеон» были опубликованы три статьи композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова о Моцарте (цикл статей Серова под общим названием «Моцартов “Дон Жуан” и его панегиристы» был помещен в № 4, 5, б журнала «Пантеон» за 1853 г), в которых он, разрушал романтический миф об авторе оперы «Дон Жуан», созданный Э.Т.А. Гофманом и другими романтиками, а также автором известной монографии о венском классике, опубликованной на французском языке в 1843 г, - А.Д. Улыбышевым. Читал ли Толстой монографию Улыбышева о Моцарте, опубликованную в 1843 г, - неизвестно, однако он, видимо, был знаком с автором книги, о чем свидетельствует письмо к С.А. Миллер 14 октября 1851 г: «Я вчера остановился, рассказывая тебе, что я видел Улыбышева. Там было еще два господина... из “мира искусства”...» [Толстой 1969, IV, 266]. Серов, признавая гениальность Моцарта, впервые заговорил о его «недостатках». В диссертации Чернышевского Моцарт фигурирует как символ музыкального искусства, подобно Рафаэлю в живописи или Шекспиру в литературе (в русской периодике первой половины XIX в. Моцарта часто сравнивали с Шекспиром [Ливанова 1956, 46^17]). Его имя обозначает то «бесполезное» искусство, существование которого Чернышевский не признает. В его сочинении «Очерки гоголевского направления русской литературы» (1855-1856) Моцарт также упоминается, но только в наименовании маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Со- седство двух имен - Моцарта и Пушкина - могло также наводить русских писателей на мысль о музыке композитора, который, подобно Пушкину, был признан в сочинениях Чернышевского бесполезным и ненужным.
Посвящая поэму «Дон Жуан» памяти Моцарта и Гофмана и предпосылая ей эпиграф из одноименной новеллы немецкого романтика (“Aber das ist die entsetzliche Folge des Stindenfalls , daB der Feind die Macht behielt, dem Menschen aufzulauern, und ihm selbst in dem Streben nach dem Hochsten, wo-rin er seine gottliche Natur ausspricht, bose Fallstricke zu legen. Dieser Conflict der gottlichen und damonischen Kraft e erzeugt den Begriff des irdischen, so wie der erfochtene Sieg den Begriff des tiberirdischen Lebens”. Hoffmann / Ho таково несчастное последствие грехопадения, что враг получил силу подстерегать человека и ставить ему злые ловушки даже в его стремлении к высшему, в котором сказывается его божественная природа. Это столкновение божественных и демонических сил обусловливает понятие земной жизни, точно так же, как одержанная победа - понятие жизни неземной. Гофман» [Толстой 1969, IV, 5]), Толстой как бы соглашается с гофманов-ской трактовкой оперы и, таким образом, присоединяется к романтическому ее толкованию. Согласно Гофману, Дон Жуан Моцарта в поисках совершенной любви, следует заложенному в нем божественному началу. По наущению дьявола он воображает, что идеальная любовь возможна уже здесь, на земле. В конце драмы Дон Жуан подвергается «наказанию» и погибает, так как «нечестиво» поглумился «над природой и творцом». Как показали впоследствии музыковеды, романтическая интерпретация оперы «Дон Жуан» не имеет никакого отношения ни к либретто Лоренцо да Понте, ни к музыкальному тексту Моцарта. Однако толкование оперы в духе романтизма было столь устойчиво в XIX - начале XX в., что его пришлось опровергать авторитетному немецкому историку музыки Герману Аберту в фундаментальном труде о биографии и музыке Моцарта. Процитируем отрывок из русского перевода книги Аберта, где говорится об опере «Дон Жуан»:
.. .в этой драме речь идет не о преступлении и наказании, но лишь о том, быть или не быть, и потрясающий трагизм финала имеет в своей основе величие и ужас происходящего, а не триумф нравственного закона над действительным миром. В этом воплощается истинный дух Ренессанса, еще раз прорывающийся здесь, и он совершенно последовательно вытекает из мировоззрения Моцарта, который всегда судит о действительности только по ней самой, но не по лежащим за ее пределами философски сконструированным законам» [Аберт 1990, 41-42].
У Толстого по сравнению с новеллой Гофмана поэтизация образа Дон Жуана усиливается настолько, что в одной из первоначальных версий поэмы, опубликованной в «Русском вестнике» [Толстой 1969, IV, 247-252], герой после смерти Донны Анны становится монахом и кается в грехах (ср.: «Настоятель: Душевная болезнь его снедает. / Раскаянья такого постоянство / Высокий есть для братии пример» [Толстой 1969, IV, 251]). В окончательном тексте события завершаются смертью главного героя после прикосновения Статуи. Ключевое значение в поэме приобретает заданный Гофманом контраст между небесными и сатанинскими силами, которые борются за душу Дон Жуана. По словам Исаака Ямпольского, Дон Жуан у Толстого «подлинный романтик», находящийся в поисках совершенного идеала любви [Ямпольский 1969, 17]. Обратим внимание, что для концепции поэмы и для творчества Толстого в целом важна не только трактовка любви, восходящая к романтической эстетике, но и ее связь с особо понятой музыкальной структурой Вселенной, описанной в Прологе. В Прологе к драме Сатана у Толстого присоединяется к поющему хору небесного воинства: «Когда вы, полные восторженной хвалою, / Поднявши очи к небесам, / Акафисты свои поете фистулою, / Як звонким вашим дишкантам / Фундаментальный бас» [Толстой 1969, IV, 13].
Сатана в «Дон Жуане» - сниженный образ по сравнению с Мефистофелем Гете в трагедии «Фауст», с которой исследователи сравнивали поэму Толстого [Шешнева 2007, 2]. Могущество Сатаны ограничено: чтобы сломить волю Дон Жуана, он обращается к оккультным силам: «Слепа, могуча, равнодушна, / Готова сила та крушить иль созидать, / Добру и злу равно послушна. / Ты, что философы зовут душой земли, / Ты, что магнитный ток сквозь мир всегда струила» [Толстой 1969, IV, 88]. В «Письме к издателю» 1862 г. Толстой пояснил общий смысл своего сочинения следующим образом: «Это был случайный и невольный протест против практического направления нашей беллетристики» [Толстой 1969, IV, 253]. Представляется, что в образе Сатаны можно увидеть легкий намек на нигилистов - современных «новых людей». Сатана у Толстого имитирует забвение своих истоков, однако небесные духи восстанавливают истину: «По дерзостным речам / Тебя узнать легко / Явись же лучше к нам / И не веди происхожденья / Хвастливо от предвечной тьмы; / Увы, ты был, до дня паденья, / Таким же светлым, как и мы!» [Толстой 1969, IV, 13]. Он охотно признает себя «бурбоном», хотя и не согласен с ангелами: «Мне грамоту мою отстаивать - бесплодно; / Во мне так много есть сторон, / Что быть готов я, коль угодно, / Не что иное, как бурбон» [Толстой 1969, IV, 13]. Значение слова «бурбон» Толстой прокомментировал дополнительно в письме к Б. Маркевичу 11 июня 1861 г: «Не держусь и за словечко “бурбон”, которое... озадачило публику. Если Вы принадлежите к тем, кому это выражение неизвестно, - сообщу Вам, что на армейском языке оно означает выскочку» [Толстой 1969, IV, 254].
С большой долей вероятности в словах Сатаны можно увидеть намеки на отрицание «новыми людьми» культурной традиции и на абсолютизацию своих взглядов Чернышевским и его сторонниками. В другом фрагменте автохарактеристики Сатаны проступают пародийные намеки на идеологию нигилизма конца 1850-х гг: «По математике я минус, / По философии - изнанка божества; / Короче, я ничто; я жизни отрицанье; / А как господь весь мир из ничего создал. / То я тот самый матерьял, / Который послужил для мирозданья» [Толстой 1969,1, 12]. Скорее всего, уже в это время Толстой начинает относиться к идеологии революционных демократов как к одному из проявлений вселенского зла в истории (традиционно считается, что свое несогласие с идеологией «новых людей» Толстой начинает открыто демонстрировать лишь со второй половины 1860-х гг. [Ямпольский 1969,12]).
В Прологе хор ангелов представляет картину Вселенной как сочетание несогласимого в согласном, четко вытекающее из божественного замысла и ему подчиненное: «Едино, цельно, неделимо, / Полно созданья своего, / Над ним и в нем, невозмутимо / Царит от века божество. / Осуществило-ся в нем ясно, / Чего постичь не мог никто: / Несогласимое согласно, / С грядущим прошлое слито» [Толстой 1969, IV, 86]. Сатана претендует на тотальное господство над вселенной («Господь» «только для красы»), а небесные ангелы полагают, что несогласованность явлений входит в изначальный и не постигаемый никем божественный замысел.
Отметим, что сочетание «несогласимое согласно» представляет собой русский перевод слегка измененной формулы «concordia discors» (несогласное согласие), которая восходит к античности и означает гармонизацию несовместимых (противоречивых) предметов, явлений, понятий, образов. В монографии А. Махова «Musica literaria. Идея музыки в европейской поэтике» (2005) находим толкование приведенной выше и других словесных формул, описывающих музыкальные и иные феномены, начиная с античности и заканчивая эпохой романтизма. Так, Овидий в «Метаморфозах» обращался к формуле «concordia discors» для изображения четырех стихий, постоянно враждующих между собой, но упорядоченных волей демиурга в единой картине мироздания. Топос «concordia discors» распространяется и на мир людей, историю: так римский поэт II в. н.э. Лукан характеризовал неустойчивое состояние мира перед войной [Махов 2005, 94]. Отсюда становится очевидно, что противоречивость и конфликтность разнородных начал во вселенной включает в себя и проявления исторического зла. В средневековой богословской литературе заимствованный из древнеримской поэзии топос «concordia discors» проецируется, согласно Клименту Александрийскому, на искупительный подвиг Христа, примирившего «разноголосицу первоначал в порядок созвучия» [Махов 2005, 91]. Под влиянием аллегорической христианской литературы формула «concordia discors» переносится на музыку, с ее помощью начинают описывать многоголосие - полифонию и контрапункт [Махов 2005, 95]. Формула встречается у Горация, Августина Блаженного, Данте и многих других авторов, которые так или иначе должны были находиться в поле внимания Толстого, знавшего несколько иностранных языков и, в частности, итальянский. О том, что Толстой мог соотносить поэму «Дон Жуан» не только с либретто, но и с музыкой Моцарта (в 1859-1860 гг. «Дон Жуан» шел на сцене Петербургской итальянской оперы, хотя не исключено и знакомство Толстого с текстом оперы по клавиру), а также с формулой «concordia discors» в ее музыкальном значении, говорит более позднее эпистолярное высказывание об опере «Тангейзер» Вагнера, кото- рым Толстой, в отличие от многих своих современников, был сильно увлечен: «Не знаю, верно ли я заметил, но мне кажется, что в других операх, где происходит борьба зла и добра (“Фрейшютц”, “Роберт” и даже “Дон Жуан”), эти обе силы являются поочередно, тогда как в «Тангейзере» они появляются одновременно, составляя одно целое, пополняя друг друга» (письмо из Берлина С.А. Толстой, 14 сентября 1869 г. [Толстой 1969, IV, 362]; ср: «...я способен слушать “Лоэнгрина” или “Тангейзера” два раза сряду, в один присест, даже если было возможно, то после последнего удара смычка готов начать снова слушать оперу» [Толстой 1969, IV, 384]).
Таким образом, в опере Вагнера «Тангейзер» Толстой услышал «контрапункт» (то есть одновременное звучание двух контрастных тем - «не-согласимое в согласном»), как, по-видимому, и в увертюре оперы Моцарта «Дон Жуан». Это понятие было Толстому знакомо; в цитированном выше письме С.А. Миллер 1851 г. Толстой сообщает: «Там было еще два господина. .. из “мира искусства”, и они принялись обсуждать вопрос о контрапункте, в котором я, конечно, ничего не понял, - но ты не можешь себе вообразить, с каким удовольствием я вижу людей, которые посвятили себя какому-нибудь искусству» [Толстой 1969, IV, 266].
Другое понятие, восходящее к ранней христианской литературе и актуальное для поэта, - это понятие «любви» как единого божественного начала, вносящего порядок в структуру музыкальной вселенной. Как показал Лео Шпитцер в книге «Идея мировой гармонии в классической античности и христианстве», в раннем христианском средневековье, в частности, в богословских сочинениях Августина Блаженного, была переосмыслена концепция пифагорейско-платоновской музыкальной гармонии: «According Pythagoreans it was cosmic order which was identifiable with music; according the Christian Philosophers it was love. <.. .> henceforth ,,order“ is love» [Spitzer 1963]. Согласно мысли ученого, пифагорейцы идентифицировали музыку с космическим порядком, а христианские философы с музыкой отождествляли любовь.
В Прологе к «Дон Жуану» находим фрагмент, восходящий к 33-й песне «Рая» «Божественной комедии» Данте, которая заканчивается стихом «Любовь, что движет солнце и светила» (в оригинале: “L’amor che move il sole e l’altre stele”). У Толстого эти слова принадлежат духам, то есть ангелам, поясняющим смысл «несогласимого в согласном» и любви как основы порядка мироздания: «Совместно творчество с покоем, / С невозмутимостью любовь, / И возникают вечным строем / Ее созданья вновь и вновь. / Всемирным полная движеньем, / Она светилам кажет путь...» [Толстой 1969, IV, 86].
Уже в программном стихотворении начала 1850-х гг. «Меня во мраке и пыли...» (1851 1852>), поэт, благодаря снизошедшему на него божественному вдохновению, ассоциируемому с любовью, обнаруживает ее для себя в звучащих стихиях и явлениях природы: «И слышу я, как разговор / Везде немолчный раздается, / Как сердце каменное гор / С любовью в темных недрах бьется, / С любовью в тверди голубой / Клубятся медленные тучи, / И под древесною корой / Весною свежей и пахучей, / С любовью в листья сок живой / Струей подъемлется певучей» [Толстой 1969,1, 82].
Поэтическое творчество трактуется в стихах Толстого как проявление божественного музыкального начала, которое воплощено в природных стихиях и в движении небесных тел (известно, что А.К. Толстой был глубоко религиозен. Ср., например, у И. Анненского: «Сила любви и гармонии, связывающая все существующее в мирах и человека со всем существующим, лежат в основе религиозных чувств поэта. Иоанн Дамаскин, певец и вероучитель, является, конечно, его любимым идеалом поэта» [Анненский]). Поэт / певец обретает подлинную свободу и созвучность стихиям, когда испытывает христианскую любовь / жалость к ближнему. Эти идеи положены в основу поэмы Толстого «Иоанн Дамаскин», опубликованной в первом номере славянофильского журнала «Русская беседа» за 1859 г. В ней Толстой развивал идею независимости художника и его искусства от социума. Считается, что сюжет поэмы имеет автобиографическую основу. Нельзя при этом согласиться с И. Ямпольским, утверждавшим в духе времени, что в поэме «чисто религиозные мотивы <.. .> отошли на второй план» [Толстой 1969, I, 657]. Несомненно, что религиозная тема в поэме имеет главенствующий характер и неразрывно связана со средневековой христианской концепцией музыки. Так, источником вдохновения для главного героя, пребывающего в монастыре и выполняющего обет молчанья, становятся любовь и сострадание к умершему монаху и его скорбящему ДРУГУ (источником поэмы сам Толстой называл «житие богослова и автора церковных песнопений Иоанна Дамаскина (VII - VIII вв.)» [Толстой 1969, I, 657]): «“...Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!” / Паки ж отказ получив: “Иоанне! - сказал черноризец. - / Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга / Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби, / Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа / Господу богу о мне, если ныне умру безутешен?” / Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце. / Собственной полон печали, певец дал жалости место; / Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье, /Образы мрачно явились толпой, и в воздухе звуки / Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье. / Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье, /Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру, / Там послушно рукой начертал, что ему прозвучало» [Толстой 1969,1, 494-495].
В приведенном фрагменте Дамаскин буквально разрешает вдохновению охватить его душу. Выполняя до этого момента обет молчания, он волевым усилием подавлял прилив звуков и образов: «И казнью стал мне праздный дар, / Всегда готовый к пробужденью; / Так ждет лишь ветра дуновенья / Под пеплом тлеющий пожар - / Перед моим тревожным духом / Теснятся образы толпой, / И, в тишине, над чутким ухом / Дрожит созвучий мерный строй; / И я, не смея святотатно / Их вызвать в жизнь из царства тьмы, / В хаоса ночь гоню обратно / Мои непетые псалмы» [Толстой 1969,1, 493].
В поэме «Дон Жуан», как мы видели, сатанинское начало, включенное в структуру Вселенной волей всевышнего, лишь имитирует музыкальность, так как не обладает божественной любовью к сущему Примечательно, что и в других произведениях Толстого, например, в историческом романе «Князь Серебряный» (1862), музыка сопутствует не только так называемым положительным персонажам, но и носителям зла - ближайшему окружению Ивана Грозного и самому царю. Однако «псалмы» опричников, сопровождаемые колокольным звоном, не находят отклика ни в природе, ни среди персонажей, противостоящих Грозному (ср. противопоставление ночного безмолвия «музыке» Ивана Грозного и опричников: «Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы» [Толстой 1969, II, 263]; «...ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да беспрерывный звон колокольный» [Толстой 1969, II, 263]). При этом сама идея «контрапункта» (звучание несогласных голосов и превращение их в «согласие», понятое как художественный принцип и миссия художника) будет важна для Толстого до самого конца его творчества. В первую очередь такой принцип проявляется в отношении Толстого к неприемлемым для него воззрениям шестидесятников и их последователей. Толстой отстаивал свое право на независимость, которая предполагала художественную полемику с идеологическими оппонентами. Так в письме с полемической окраской 1 октября 1871 г. редактору журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевичу он писал: «Повторяю, я не понимаю, почему я волен нападать на всякую ложь, на всякое злоупотребление, но нигилисма, ком-мунисма, материалисма et tutti quanti трогать не волен? А что я через это буду в высшей степени не популярен, что меня будут звать ретроградом -да какое мне до этого дело? Разве я пишу, чтобы понравиться какой бы то ни было партии? Я хвалю то, что считаю хорошим, и порицаю то, что считаю дурным, не справляясь, в какой что лежит перегородке, в консервативной или в прогрессивной» [Ямпольский 1969, 635] (более подробно о литературной позиции А.К. Толстого второй половины 1860-х - начале 1870-х гг. см.: [Немзер 2013, 610-637]).
Как мы попытались показать, уже в творчестве 1850-х гг. Толстой намечает подход к многоплановому или своеобразно понятому «контрапунктному» изображению действительности. Подводя итоги, подчеркнем, что генезис музыкализации многих лирических стихотворений, баллад и художественной прозы А.К. Толстого необходимо изучать в будущем не только литературоведам, но также историкам музыки.
Список литературы "Concordia discors" и другие музыкальные образы в драматической поэме А.К. Толстого "Дон Жуан"
- Аберт Г. В.А. Моцарт. Часть 2. Кн. 2. М.: Музыка, 1990.
- Анненский И.Ф. Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический материал. Часть первая. URL: http://az.lib.ru/a/annenskij_i_f/text_0790.shtml (дата обращения: 06.09.2020).
- Иванов-Борецкий М. Полемика о Бетховене в пятидесятые годы прошлого века // Русская книга о Бетховене. М.: Государственное издательство. Музыкальный сектор, 1927. С. 36-53.
- Ливанова Т. Моцарт и русская музыкальная культура. М.: Музгиз, 1956.
- Махов А. Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada, 2005.
- Немзер А. При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы. М.: Время, 2013.
- Пильд Л. «Правда» о личности Моцарта в поэме Якова Полонского «Кузнечик-музыкант» // Толкования правды в русской литературе и культуре. Studia Russica Helsingiensia. Helsinki: Helsinki University Press, 2021 (в печати).
- Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Правда, 1969.
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949.
- Шешнева Т. Творчество А.К. Толстого в контексте русско-немецких литературных и историко- культурных связей: автореф. ... к. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2007.
- Ямпольский И. А.К. Толстой // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М.: Правда, 1969. С. 3-50.
- Spitzer L. Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word "Stimmung". Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1963.