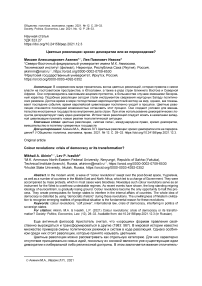Цветные революции: кризис демократии или ее перерождение?
Автор: Михаил Александрович Акинин, Лев Павлович Ивасих
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В современном мире прокатилась волна цветных революций, которая привела к смене власти на постсоветском пространстве, в Югославии, а также в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они сопровождались массовыми акциями протестов, в большинстве случаев имевшими бескровный характер. Подобные революции сегодня стали инструментом свержения неугодных Западу политических режимов. Долгое время в мире господствовал европоцентристский взгляд на мир, однако, как показывают последние события, время европейской цивилизации постепенно уходит в прошлое. Цветные революции становятся последней возможностью остановить этот процесс. Они создают условия для вмешательства иностранных государств во внутренние дела стран. При этом использование демократических лозунгов дискредитирует саму идею демократии. Истоки таких революций следует искать в нежелании западной цивилизации признать новые реалии геополитической ситуации.
Цветные революции, «мягкая сила», международное право, кризис демократии, вмешательство в политику суверенных государств
Короткий адрес: https://sciup.org/149138734
IDR: 149138734 | УДК: 323.27 | DOI: 10.24158/pep.2021.12.3
Текст научной статьи Цветные революции: кризис демократии или ее перерождение?
Технический институт (филиал), Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия, akininm@mail.ru0,
2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия,
1M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Neryungri, Republic of Sakha (Yakutia), Technical Institute (branch), Russia, akininm@mail.ru0, 2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia,
Еще античный философ Аристотель считал, что «хорошим» формам правления свойственно вырождаться и трансформироваться в другие (1983: 567). В мировой истории известно множество примеров смены политических режимов и систем в ходе революций. Однако особняком среди них стоят революции, которые принято называть цветными.
Цветные революции можно рассматривать как отдельную категорию. Для них характерно отсутствие принципиально новых идей, поскольку их основой являются уже существующие идеи демократии и либеральной либо религиозной доктрины. В этом заключается важная отличитель-
ная черта подобных революций, поскольку традиционной революции свойственна новая для общества идеологическая система воззрений1. Цветная революция, по сути, представляет собой относительно безыдейный процесс смены политического режима, наделенный определенной символикой и не являющийся революцией в традиционном понимании.
Неоднократно применялись попытки сформулировать и само понятие цветной революции. Его трактовали и как процесс смены правящих режимов под давлением массовых уличных акций протеста и при поддержке финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций (По-чепцов, 2005: 11), и как модернизированные технологии психоисторической борьбы Запада за мировое господство (Пономарева, Рудов, 2012: 37).
Говоря о причинах возникновения механизма цветных революций, следует отметить, что в большинстве случаев основным мотивом является стремление к свободе и демократии. Однако демократия в классическом понимании и демократия, активно навязываемая в настоящее время, – категории малосопоставимые. По мнению Н.А. Нарочницкой, речь идет «о глубоком кризисе самой концепции демократии, об очевидном распаде ее классических интерпретаций» (2008: 5).
По нашему мнению, истоки данного подхода следует искать в исторических документах. Так, еще в доктрине Монро (1823 г.) США, по сути, провозгласили свое право в одностороннем порядке изучать и признавать независимость (что само по себе является превышением внешнеполитических полномочий), а также устанавливать собственные режимы «к югу от Рио-Гранде», т. е. в Центральной и Южной Америке, развивать модель мироустройства, именуемую Pax Americana (лат.) – «американский мир» (Селиванов, 2017).
Еще со времен древних римлян применяется известный принцип управления divide et impera (лат.) – разделяй и властвуй. В связи с этим любопытным представляется утверждение С. Манна (посла США в Туркменистане в 1998–2001 гг.) о том, что «создание хаоса» посредством содействия демократии и рыночным реформам является необходимым для обеспечения интересов США2. Во многом на этом построены принципы работы спецслужб Соединенных Штатов, подразумевающие «координацию и использование всех средств, включая моральные и физические (исключая военные операции регулярной армии, но используя их психологические результаты), при помощи которых уничтожается воля врага к победе, подрываются его политические и экономические возможности»3.
Этой цели служат и так называемые «фабрики мысли» – специальные организации, разрабатывающие и совершенствующие механизмы и сценарии демократических революций (в их числе – RAND Corporation, Институт Санта-Фе, «Дом свободы», Национальный фонд в поддержку демократии и др.) (Пономарева, Рудов, 2012: 37).
Один из наиболее видных идеологов цветных революций Дж. Шарп, труды которого в определенной степени являются практическим руководством, пособием по организации и проведению революций во имя демократии, указывает на необходимость содействия демократии, связывая его с борьбой с тоталитарными и авторитарными режимами (2005: 7). Дж. Шарп представляет навязывание демократии как инструмент борьбы с диктатурой, действующий «во благо». На этих позициях строится и проект США «Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Во-стоке»4, объединивший более 350 программ для продвижения демократии и создания прослойки ориентированных на западные ценности граждан в арабских странах5.
Важно отметить, что никакие государства не смогли бы дестабилизировать ситуацию в другой стране при отсутствии внутренних причин. Предпосылки цветных революций обусловлены не только наращиванием США своего влияния в мире, в равной степени они вызваны внутренними факторами в странах, где такие процессы происходят: политическим кризисом, проблемами в сфере экономики (нищетой, отсутствием среднего класса как гаранта стабильности и т. д.) (Ту-паев, Маркин, 2017).
Вопрос отнесения тех или иных революций к категории цветных является дискуссионным. Таковыми можно считать серию арабских революций (в частности, «революцию лотоса» в Египте) (Пономарева, Рудов, 2012: 42–44), «оранжевую революцию» на Украине, «революцию роз» в Грузии, «тюльпановую революцию» в Киргизии, «бульдозерную революцию» в Югославии (Лафлэнд, 2008: 23) и т. д.
Следует отметить, что не все цветные революции заканчиваются успешно (успешно, разумеется, для заинтересованных в них лиц). Так, к неудавшимся попыткам можно отнести события 2008 г. в Армении1, 2009-го – в Молдавии2, а также 2006 и 2020 гг. в Беларуси.
Нельзя отрицать и тот факт, что все перечисленные процессы происходили обособленно друг от друга, однако между ними имеется ряд сходств. В частности, объединяют указанные революции общие скрытые механизмы. Используемые при этом технологии не ограничиваются лишь инструментами их совершения. Как известно из истории, любая революция есть процесс, требующий тщательной подготовки. Целесообразно выделить подготовительные механизмы, применяемые для формирования почвы для будущих цветных революций.
Например, США, реализуя образовательные программы, делает упор на молодых студентов из стран, входящих в орбиту их внешнеполитических интересов. Те, в свою очередь, обучаясь и проживая в США, знакомятся с демократическими ценностями и учатся жить «по-американски», а затем, вернувшись на родину, продвигают эти идеи там. В конечном счете Вашингтон получает своего рода агентов внутри иностранного государства, готовых бороться за установление демократии в своей стране.
Отдельного внимания заслуживает то, что в качестве целевой аудитории, а следовательно, и главной движущей силы цветных революций используется именно молодежь – энергичные и полные решимости люди, но вместе с тем не столь склонные к критическому мышлению, как старшее поколение (в силу отсутствия достаточного жизненного опыта). Такие люди легко обучаемы, часто внушаемы и нередко обладают харизмой, позволяющей выступать лидерами протестных движений, вести население за собой. Как пример молодежных оппозиционных движений в странах, где были совершены цветные революции, можно выделить движения «Кмара» в Грузии, «Отпор» в Югославии и «Пора» на Украине.
Упор делается и на обучение женщин с их последующим задействованием в качестве движущей силы цветных революций наряду с молодыми людьми. Данное обстоятельство обусловлено двумя факторами. Первый – идея эмансипации в странах, где женские права ограничены, как одна из весомых причин установления демократии в виде ее неотъемлемой части. Второй – использование женщин как олицетворение добра и мирных целей предлагаемых преобразований, поскольку иногда менталитет, особенно в странах постсоветского пространства, не позволяет применять силу по отношению к женщинам, что делает противодействие именно женскому протестному движению затруднительным (события в Белоруссии в 2020 г.).
Говоря о механизмах, с помощью которых совершаются цветные революции, нельзя не упомянуть и концепцию «мягкой силы» (Soft Power) – «власти информации и образов» (Най, 2006: 176–177, 180). По сути, смысл данного инструмента заключается в информационной войне, направленной на манипулирование сознанием людей таким образом, чтобы они не замечали этого воздействия. В этом смысле концепцию «мягкой силы» целесообразно рассматривать в неразрывной связи с одним из важнейших ресурсов «мягкой силы» – механизмом обучения иностранных студентов в целях внедрения в их умы демократических идей.
Безусловно, концепция «мягкой силы» включает в себя также создание и финансирование оппозиционно настроенных (по отношению к действующей власти в государстве – объекту потенциальной цветной революции) партий и средств массовой информации, содействие их деятельности, информационную и иную поддержку. Кроме того, инструментом, позволяющим реализовать концепцию «мягкой силы», является, например, поддержка вербальных специалистов (деятелей культуры и искусства, блогеров, актеров, журналистов и др.), транслирующих прозападные идеи и влияющих в силу своего рода деятельности на население. Используются также инструменты, обеспечивающие влияние на людей посредством сети Интернет, пиар-технологии.
В сущности, идея «мягкой силы» противостоит активно реализуемым ранее силовым методам воздействия на иностранные государства. Она выглядит предпочтительнее по следующим причинам:
-
– во-первых, «мягкая сила» не предполагает вооруженного конфликта и не нарушает законодательство иностранных государств;
-
– во-вторых, манипулирование сознанием позволяет заинтересованным лицам управлять людьми, что в сравнении с силовыми методами воздействия является более эффективным методом, поскольку в таком случае изменения происходят глубоко в сознании населения.
В начале XXI в. «мягкая сила» включает в себя наиболее важные элементы политической борьбы, используемые в ходе совершения цветных революций. Бескровность некоторых из них обусловлена применением «мягкой силы», поскольку борьба ведется информационная, но не физическая (силовая).
Цветные революции становятся механизмом, с помощью которого планомерно совершается смена политической элиты в интересах внешних сил (и во многом за их счет), но с использованием «воли народа» как главного аргумента необходимости преобразований. Однако «воля народа» здесь выступает, скорее, «волей Запада», методично внедряемой в умы населения посредством информационной войны.
Конституции подавляющего большинства государств мира провозглашают собственные суверенность и независимость. Не является исключением и основной документ стран, где цветные революции происходили. Так, например, в ст. 1 Конституции Украины от 1991 г. говорится: «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государ-ство»1. В ст. 1 Конституции Кыргызской Республики сказано, что Кыргызстан есть суверенная, унитарная, демократическая республика, построенная на началах правового, светского государства, а его народ выступает носителем суверенитета и единственным источником государственной власти Кыргызской Республики2. Действовавшая на момент революции 2011 г. Конституция Египта провозглашала демократический социалистический строй государства, стремление арабской нации к полному единству и суверенитет, принадлежащий только народу3.
О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств говорит и Декларация Организации Объединенных Наций, членами которой являются и США, и страны, в которых цветные революции совершались: «Никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства. Вследствие этого осуждаются не только вооруженное вмешательство, но также все другие формы вмешательства и всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства или против его политических, экономических и культурных элементов»4.
Фактически любое вмешательство в государственную систему иностранных государств является незаконным и противоречит как принципам, провозглашенным на государственном уровне, так и основам международного права. Поэтому действия Вашингтона и его союзников по поддержке и способствованию смене политических элит в других странах противоречат этим нормам и представляются незаконными.
Дискуссионность в данном вопросе может заключаться в формальном определении вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Во многом именно благодаря стратегии «мягкой силы» найти признаки подобного влияния проблематично, поскольку воздействие осуществляется не просто непрямым способом, но способом, не позволяющим фактически доказать вмешательство, – путем планомерного манипулирования сознанием людей без какого-либо физического или иного контакта с гражданами.
Тем не менее такие действия являются нарушением норм международного права (в силу обозначенной формулировки «осуждаются не только вооруженное вмешательство, но также все другие формы вмешательства» из упомянутой Декларации ООН), так как информационная война и манипулирование сознанием в целях смены политической элиты в государстве выступают косвенными признаками вмешательства в дела этой страны. В связи с этим истинность суждения, что подобное вмешательство в дела других государств является нарушением их конституционных норм, представляется неоспоримой.
Однако действия Вашингтона и стран Запада по поддержке цветных революций фактически не подвергаются критике и осуждению со стороны мирового сообщества. Данная тенденция в значительной степени обусловлена тем, что при нарушении независимости государств акцент делается в первую очередь на благих целях таких действий – «во имя демократии». С этой точки зрения, бесспорно, найти формальные основания для определения таких действий как незаконных (тем более – для привлечения виновных к ответственности) еще более проблематично, поскольку четкие критерии демократии не закреплены ни в одном официальном источнике.
В связи с этим актуальным становится изложенный ранее тезис Н.А. Нарочницкой об очевидном кризисе демократии, поскольку в таком случае возникает логичный вопрос: в чем смысл власти народа в стране, если ему, пусть и посредством группы граждан этой страны (например, молодежных оппозиционных движений), может быть навязана воля другого государства? Представляется очевидным, что при этом нарушается суверенитет государства. В данных условиях независимость и право народа на самоопределение более важны, чем демократия, завуалированным способом навязанная третьими лицами.
Кроме этого, если в вопросе соответствия совершения цветных революций нормам права и наличествует дискуссионность, то в вопросе соответствия нормам морали неопределенности значительно меньше. В основе системы поддержки и содействия цветным революциям лежит обман: начиная с того, что непосредственная связь заинтересованных лиц за океаном с фактическими лидерами оппозиции не афишируется, и заканчивая тем, что внешнеполитические интересы США реализуются под прикрытием распространения демократии в благих целях. В итоге население, еще вчера не склонное к протестам и в целом удовлетворенное положением дел в стране, сегодня осознало смутное настоящее и перспективу светлого будущего. Как результат – не обещанное торжество демократии и свободы, а менее благоприятные последствия.
Таким образом, цветные революции, будучи одним из инструментов реализации Вашингтоном внешнеполитических интересов, не нарушают закон буквально, но делают это по сути. Можно с уверенностью утверждать, что подобные революции отражают кризис и вырождение демократии, но никак не ее перерождение, поскольку смысл народовластия теряется, когда народ является лишь посредником, в то время как первоисточником власти выступают третьи лица, заинтересованные в смене режима в данном государстве, либо лица, действующие в их интересах. Представляется очевидным стирание грани между демократией, охлократией и олигархией, поскольку демократией такая власть называется официально, охлократия находит выражение в фактической смене политического режима руками протестующих, а олигархия проявляется в навязывании воли группой людей населению государства, в искусном манипулировании их сознанием в целях реализации собственных интересов.
Страны, подвергшиеся цветным революциям, нередко теряют контроль над своими ресурсами. Поэтому такие революции следует рассматривать как новую форму неоколониализма Запада.
На фоне этого целесообразным видится поиск возможных путей предотвращения цветных сценариев в дальнейшем. Очевидно, что главная цель граждан, не желающих подвергнуться манипуляции посредством «мягкой силы», – не дать себя обмануть. В связи с этим помочь решить данную проблему могло бы просвещение населения, в особенности группы риска – молодежи.
Одним из важных факторов в противодействии цветным революциям является и решительность действующей власти в государстве – потенциальном объекте. Еще римский историк Тацит отмечал, что «в сражении проигрывает тот, кто первым опускает глаза» (Фурсов, 2006: 45). Актуальным этот тезис остается и в вопросе совершения цветных революций – успеха достигали только те из них, при которых действующая власть демонстрировала слабость при противостоянии воздействию. Напротив, в странах с решительным лидером и преданными ему силовыми структурами, при всех возможных недостатках режима, цветные революции были обречены на провал (например, разгон митингующих в Беларуси в 2020 г., а также события в Армении в 2008 г., когда действующий на тот момент президент Р. Кочарян ввел чрезвычайное положение, тем самым запретив проведение демонстраций).
«Революция пожирает своих детей» – такие слова были произнесены в период Великой французской революции1. Наблюдая за последствиями цветных революций в мире, можно сделать вывод, что данный тезис актуален и сейчас.
Список литературы Цветные революции: кризис демократии или ее перерождение?
- Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М., 1983. 830 с.
- Лафлэнд Дж. Техника государственного переворота // Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека : сб. статей / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. СПб., 2008. С. 23–38.
- Най Дж.С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике / пер. с англ. В.И. Супруна. Новосибирск; М., 2006. 221 с.
- Нарочницкая Н.А. Демократия XXI: перерождение смыслов и ценностей // Оранжевые сети: от Белграда до Биш-кека : сб. статей / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. СПб., 2008. С. 5–10.
- Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Обозреватель. 2012. № 3 (266). С. 36–48.
- Почепцов Г.Г. Революция.com: основы протестной инженерии. М., 2005. 520 с.
- Селиванов А.И. Американская доктрина о превентивном военном ударе как политическая и правовая реализация духовных оснований американской культуры // Евразийский юридический журнал. 2017. № 12 (115). С. 16–20.
- Тупаев А.В., Маркин Р.Ю. Предпосылки цветных революций на постсоветском пространстве (на примере Грузии и Украины): сравнительный анализ // Современная наука и инновации. 2017. № 4 (20). С. 229–234.
- Фурсов А.И. Исследования современного миропорядка // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 3. С. 42–47.
- Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Концептуальные системы освобождения. М., 2005. 81 с.