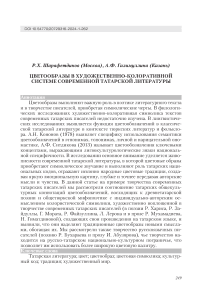Цветообразы в художественно-колоративной системе современной татарской литературы
Автор: Шаряфетдинов Р.Х., Галимуллина А.Ф.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цветообразы выполняют важную роль в поэтике литературного текста и в творчестве писателей, приобретая символические черты. В филологических исследованиях художественно-колоративная символика текстов современных татарских писателей недостаточно изучена. В лингвистических исследованиях выявляется функция цветообозначений в классической татарской литературе в контексте тюркских литератур и фольклора. А.Н. Кононов (1978) выявляет специфику использования семантики цветообозначений в этнонимах, топонимах, личной и нарицательной ономастике, А.Ф. Ситдикова (2013) называет цветообозначения ключевыми концептами, выражающими лигвокультурологические знаки национальной специфичности. В исследовании основное внимание уделяется живописности современной татарской литературы, в которой цветовые образы приобретают символическое звучание и выполняют роль татарских национальных кодов, отражают исконно народные цветовые традиции, создавая яркую эмоциональную картину, глубже и точнее передавая авторские мысли и чувства. В данной статье на примере творчества современных татарских писателей мы рассмотрели соотношение татарских общекультурных коннотаций цветообозначений, восходящих к древнетатарской поэзии и общетюркской мифопоэтике с индивидуально-авторским осмыслением колористической символики, художественно воплощенной в творчестве современных татарских писателей (в поэзии Р. Хариса, Р. Зайдуллы, Г. Мората, Р. Файзуллина, Л. Лерона и в прозе Р. Мухамадиева, Н. Гиматдиновой), создающих свои произведения на татарском языке, и выявили, что они наделяют традиционные цветообразы новыми смыслами, обогащая их. Мы рассмотрели также творчество русскоязычных писателей (поэзию Р. Бухараева и прозу И. Абузярова), чье творчество находится на русско-татарском национально-культурном пограничье, что позволяет им использовать более широкую цветовую палитру.
Татарская литература, цвет, цветообраз, цветовая символика, культурный код, традиция, художественный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/149145251
IDR: 149145251 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-262
Текст научной статьи Цветообразы в художественно-колоративной системе современной татарской литературы
Традиционно цвет и его символика – значительное и своеобразное средство сложной смысловой и эстетической составляющей национальной культуры и текстов художественной литературы. Цветообозначения представляют собой своеобразный этнопсихологический код, специфический для каждого народа. Отдельные цвета в национальных культурах, в фольклоре и литературе доминируют, приобретают сакральный характер. Так, самобытность мироощущения тюрков и их культурного наследия определяются предпочтительным использованием «сине-голубого, зеленого и белого цветов, которые представляют собой этнические и этнопсихологические кодовые знаки» [Бакиров 2015, 17]. При этом следует отметить, что в современной татарской поэзии и прозе существенно расширяется цветовая палитра, в связи с явлениями глобализации, обогащаясь за счет общетюркских и культурных традиций народов, носителей других лингвокультурных традиций.
Общая характеристика цветовой символики общеизвестна: « белый, алый, красный, зеленый – цвета радости, надежды, покоя; синий – цвет Неба, нежности, раздумий, тоски; черный – цвет горя, трудностей, темных сил» [Мухамадиев 2008, 85]; желтый – цвет грусти, печали, горя. Так, белый цвет связывается с Божественным и представляется символом Света, добродетели, целомудрия, «святости, чистоты, мира и света, счастья и удачи, благополучия» [Хисамитдинова 2019, 42]; черный в бинарной оппозиции белому – цвет горя, отрицания Света, символ греха, небытия, часто ассоциируется с ночью, злом, невежеством, эгоистическими и злобными стремлениями, в тюркской мифологии обладает как положительным (плодородие), так и отрицательными (нечистые силы) значением; красный – символ крови, жизни, рождения, разрушения, «здоровья, достатка, огня, плодовитости, чистоты, праздника» [Хисамитдинова 2019, 286]; желтый цвет – символ золота, богатства, в тюркской культуре имеет положительные, связанные с Солнцем, золотом, топленым маслом, и отрицательные, олицетворяющие болезнь, грусть, болезнь [Хисамитди-нова 2019, 366], значения; голубой цвет в мифологии разных стран ассоциировался с божествами (в Древнем Египте – Амон-Ра, Греции – Юпитер, Индии – Вишну и т. д.).
Значительное место цветовой символики в культуре объясняет широкое научное изучение его семантики в исследованиях фольклора (Ю.А. Крашенникова [Крашенинникова 2009, 107–112], Е.Н. Девицкая [Девицкая 2013, 120–124]); лингвистики (В.Х. Хаков, С.С. Жабаева, Л.А. Усманова, Г.З. Габбасова, А.А. Бояркина [Бояркина 2023, 131–144], Л.Г. Попова, И.В. Шведова [Бояркина, Попова, Шведова 2021, 61–72], Ю.В. Дюпина, Т.В. Шакирова, Н.А. Чуманова [Дюпина, Шакирова, Чуманова 2013, 187– 189] и др.), изучении произведений мировой литературы (О.А. Мельничук, Е.С. Руфова [Мельничук, Руфова 2019, 101–108], Е.А. Юшкина [Юшкина 2007, 131–134], Е.С. Руфова [Руфова 2022, 44–49], О.А. Хасанов [Хасанов 2017, 227–231], В.С. Дарененкова [Дарененкова 2010, 191–201], С.В. Кулинская [Кулинская 2008, 140–143], Н.С. Бочкарева [Бочкарева 2012, 181–185], И.О. Маршалова [Маршалова 2011, 243–246] и др.), литератур народов России и ближнего зарубежья (Г.М. Мамбеталиева [Мам-беталиева 2016, 65–69], И.А. Бедарева [Бедарева 2016, 19–22], Е.В. Косинцева [Косинцева 2019, 653–662], М.Р. Валиева [Валиева 2018, 34–41], К.Ж. Елибаева [Елибаева 2012, 60–66], Л.В. Павлова, И.В. Романова [Павлова, Романова 2022; Павлова, Романова 2022а]).
Символическое значение цвета, во многом исходящее из его внутренних свойств, соотносилось с образами планет, традиционно предписываемых каждому цвету, или связей, выводимых посредством логики, мифологии. В современной татарской литературе цветовая символика, соотносящаяся с национальными традициями литературы, не только основывается на индивидуальном выборе автора, но и приобретает эмоционально-эстетическую и семантико-познавательную функцию. Как отмечает Л.В. Самарина, «к числу своеобразных способов “цветовой адаптации” культур к своим экологическим нишам следует отнести различия в способах классификации цвета и катерогизации его в языке» [Самарина 1996, 225]. Как отмечает Л.Ю. Парамонова, «цвет как символ, используемый авторами сознательно (на предметно-мотивном уровне) или интуитивно (на уровне фотосемантики), обогащает произведения. Синтез цвета и звука, совокупность их восприятия человеком, делают образ суггестивным и несущим глубинные мифопоэтические смыслы» [Парамонова 2017, 6].
Материалы и методы исследования
Ведущим методом исследования является системный подход, который позволяет применять к изучению творчества современных татарских писателей историко-функциональный, историко-генетический, сравнительно-типологический и историко-функциональный методы. В статье доминирует междисциплинарный подход, позволяющий при использовании данных философских, литературоведческих, лингвистических исследований адекватно определить современное состояние татарской литературы и литературоведения в контексте литератур и культур народов России, ближнего и дальнего зарубежья.
В филологических исследованиях по татарской литературе вопрос о роли цветообразов в художественном мире писателей носит ситуативный характер. Специальных исследований, нацеленных на выявление символики цветообразов в поэтике татарских писателей, крайне мало.
Методологической основой нашего исследования послужили исследования литературоведов М.Х. Бакирова [Бакиров 2014, 309], А.Ш. Васило-вой [Василова 2016, 300–1307], Г.А. Сабировой [Сабирова 2007, 146–148], Н.М. Юсуповой [Юсупова 2016, 139–146], А.В. Аминевой [Аминева 2007, 142–159], Ф.Г. Галимуллина [Галимуллин 2021, 200], Д.Ф. Загидуллиной [Загидуллина 2011, 58–62], А.Ф. Закирзянова, Р.Р. Замалетдинова [За-малетдинов 2004, 239], М.И. Ибрагимова, Э.Ф. Нагумановой, Л.М. Сафиной [Сафина 2021, 203], М.М. Хабутдиновой, Р.З. Хайруллина и др. В частности, в нашем исследовании мы ориентировались на наблюдения М.Х. Бакирова о том, что зеленый, белый, голубой цвета доминируют в фольклоре татар, представляя собой «этнические и этнопсихологические кодовые знаки, определяющие самобытность мироощущения и культурного наследия тюрков» [Бакиров, 2014, 296]. Н.М. Юсупова определила, что цветообразы используются в фольклоре в роли символа как структурообразующего компонента [Юсупова 2016, 141], а Р.Р. Замалетдинов выявил значительную роль цветосветовой лексики в создании концепта «человек» в татарском языке [Замалетдинов 2004, 239].
В исследовании современной татарской литературы важным представляется проблема воплощения цветообразов в произведениях. С целью усвоения методики ведения подобных исследований были изучены исследования литературоведов и лингвистов по цветовой колористике в творчестве русских и зарубежных писателей.
На примере творчества современных татарских писателей (в поэзии – Р. Харис, Р. Зайдулла, Г. Морат, Р.Файзуллин, Л. Лерон и в прозе – Р. Мухамадиев, Н. Гиматдинова), создающих свои произведения на татарском языке, и русскоязычных писателей (поэзия Р. Бухараева и проза И. Абузярова), чье творчество находится на русско-татарском национально-культурном пограничье, мы рассмотрели соотношение татарских общекультурных коннотаций цветообозначений, восходящих к древнетатарской поэзии и общетюркской мифопоэтике с индивидуально-авторским осмыслением колористической символики. Изучение творчества этих татарских писателей в широком диахроническом и синхроническом контекстах позволило нам определить специфику использования цвето-образов современными татарскими писателями. Отметим, что в связи с ограниченностью объемов статьи все произведения татарских писателей приводятся в художественных переводах, опубликованных в сборниках переводов произведений татарских писателей, при этом авторы статьи работали с оригиналами на татарском языке, определив точность, адекватность и эквивалентность передачи цветообразов в предлагаемых в статье переводах на русский язык.
Обсуждение
Остановим внимание на символике некоторых цветов, приобретающих частотные и интересные для дальнейшего, в том числе в сравнительно-сопоставительном аспекте, изучения.
Белый цвет в тюркской культуре – «символ святости, чистоты, верхнего мира и света, счастья и удачи, благополучия и достатка» [Хисамитди-нова 2019, 268] – часто связывается также с культом Луны. Одновременно с этим иногда в культуре белый цвет может толковаться с отрицательной семантикой: может связываться со смертью и потусторонними силами (белый цвет савана, приведения).
Так, в прозе Р. Мухаммадиева белый цвет приобретает частотные значения красоты, легкости (в рассказе «Открытое окно»): «Конечно же не ей, с ее белыми, как лебяжий пух, руками и стройными прямыми ножками на высоких каблуках, было таскать тяжести» [Мухаммадиев 2012, 200], а в повести «Белые скалы» белый цвет – символ простора: «Отсюда мир становился просторным… Заборы и плетни, которые люди нагородили вдоль и поперек, кажутся лишь бессмысленной ненужной мелочью. Вокруг белым-бело. Улицы белые. Крыши домов, надворные постройки – все покрыто белой пеленой. С крыш подымаются белые-белые дымы. Белые дымы устремляются белыми столбами вверх и сливаются с белыми облаками…» (пер. М. Числова) [Мухаммадиев 2012, 344]. В данном ключе белый свет определяется «цветом счастья».
Белый цвет приобретает значения пустоты, опустощенности, вечности («белое безмолвие») в русскоязычном романе И. Абузярова «Концерт для скрипки и ножа» в описаниях диалога с потерявшим память человеком (Статиком): «И тут, странное дело, все слова, <…> улетучились. Растворились в этой белой комнате, словно крахмал в молоке. Пытался собраться с мыслями, я посмотрел по сторонам. Белые стены, потолок, белые постельные принадлежности и полотенца… Вдали так бело , словно все невесты Польши одновременно идут к алтарю» [Абузяров 2017, 48].
Белый цвет, одежда белого цвета – неотъемлемые атрибуты татарского праздника Сабантуй, нашедшего широкое отражение в татарской лирике (А. Баян «Зеленый майдан», Р. Файзуллин «Надо!», Л. Шакирзянова «Платьица», Ф. Яхин «Воспоминание на всю жизнь») и прозе. К примеру, герой рассказа Г. Исхаки «Курбан гаид» вспоминает праздные гуляния: «… как вместе с такими же ребятами, как и сам, надев чистую белую рубаху и новые казаки <…> радостно гулял по улицам шумной деревни» [Искахи 1998, 124].
Современные поэты наделяют традиционные цветовые образы новыми смыслами, обогащая их. Так, многие поэты ассоциируют белый цвет со снегом, снежным покрывалом, который в контексте стихотворения получает метафорическую многозначность. Так, в стихотворении Р. Хариса «Рецепт» размышления о миссии поэта в обществе переданы через образ весеннего снега, смешанного с землей: «Я озирал родимые края, / мечтая их, как Золушку, украсить. / Взглянул в себя – а вся душа моя, / как снег весной – / в ошметках черной грязи » [Харис 2011, 55]. Интересно контекстное переосмысление слова «грязь», которое в стихотворении утрачивает свое негативное значение, ассоциируясь с землей родины (в многозначном звучании татарского слова «туфрак»): «Свой смех навек под грустью по-гребя, / я лег на землю, грея сердцем поле – / и стал поэтом!.. И вобрал в себя – / земные страхи и земные боли» [Харис 2011, 55]. Антитеза «белое» и «черное» представлена в стихотворении «Слетает снег на черные поля» Р. Хариса: «Слетает снег на черные поля, / на черный лес и черную дорогу . / Кто там летит, снежинками пыля / и сея в мир щемящую тревогу?» [Харис 2011, 108]. Цвет снега в контексте этого стихотворения – «белый», что позволяет автору выстроить параллель с судьбой человека: «То пролетает мимо – наша жизнь, / нам на виски снег-седину роняя…» [Харис 2011, 108].
Белый снег может быть желанным: «Но вот и лето кончилось, и осень, / и белым снегом дни мои заносит…» («Страх потери») [Харис 2011, 102]; может навевать тревогу, как в стихотворении Р. Хариса «Белая тревога», в котором образ поэта и его чувств, эмоций сопровождает эпитет, проводя параллель с окутанной снегом природой: «Предо мной – неизвестность / расстелена белым листом. / Ни путей, ни дорог – всё упрятал / в сугробах мороз / Только черные черточки на вертикалях / берез» [Харис 2011, 109]. Замечательна поэтическая находка Р. Хариса в передаче белого цвета че- рез образ белых берез, который дополняет, обогащает белизну картины и одновременно перечеркивает черными черточками абсолютную белизну природы. Зима, как и белизна страницы, не абсолютна, ее легко нарушить, поэтому и ощущается трепет, тревога белизны в предчувствии прихода весны: «Лес под снегом таится, укутав рябины, дубы. / Он похож на страницу еще не прочтенной судьбы. / Чую, заговор зреет! Колеблется белая тьма! / Скоро солнце пригреет – и свергнута / будет зима…» [Харис 2011, 110]. Оксюморон «белая тьма» подчеркивает тревожные чувства поэта. На игре белого и черного цветообразов построено стихотворение «В белом плену» Р. Хариса, имеющее неожиданный финал. Восхищенное описание прекрасного белоснежного пейзажа в начале стихотворения: «Мир полон дивной белизны – / он словно выбелен весь мелом / И ветви ели, и сосны / покрыты снегом белым-белым» [Харис 2011, 111], продолжается перечислением белых образов: «березы белы», «Мир взят в тотальный белый плен / закован в белую блокаду». Но, любуясь этой белизной, лирический герой восклицает: «…я давным-давно / люблю смотреть цветные свадьбы…» [Харис 2011, 111]. В данном случае определение «цветные», выделенное автором курсивным написанием, противопоставляет холодной величавости и умиротворенности белоснежного мира яркость жизнеутверждающего праздничного обряда – свадьбы. Отметим, что и в этом стихотворении березы нарушают абсолютную белизну черными черточками: «Березы стройные белы, / но различить их все умеют, / поскольку белые стволы – / отметки черные имеют» [Харис 2011, 111].
Образы белых снегов в творчестве татарских поэтов могут ассоциироваться и с родной для них Казанью. Так, в стихотворении «Когда вернусь в казанские снега…» татарского поэта Р. Бухараева, большую часть жизни прожившего вдали от Казани, мотив возвращения блудного сына на родину передан через образ казанских снегов и дороги к ним: «Когда в душе вздымается пурга, / когда со всех чужбин в святые дали / зовут меня казанские снега , / я знаю, как и ты, снесу едва ли / всю эту ложь, но сладко и в опале, / когда зовут казанские снега » [Бухараев 2011, 352]. В стихотворении автора «Воспоминание о Казани» любимый город вновь предстает заснеженным: «Зима явилась перед нами / в Москве, но все ж передо мной / пейзаж знакомый, да иной – / Казань и Волга подо льдами. / Река бела . Закрыли льды / неудержимое движенье; / кремля цветное отраженье , / свеченье голубой воды» [Бухараев 2011, 70]. Если в первом стихотворении ощущается тоска по родному городу, желание найти в нем душевную опору в пору переживания горя и ощущения неустроенности мира, то во втором стихотворении образ замерзшего города передает сложное отношение к родине и к друзьям-писателям, оставленным в нем: «Метафорично рассуждая, / заметим странный хоровод: / пчела, из улья вылетая, / в чужие улья носит мед. / Два памятника в круге зданий / теперь все памятнее мне: / Тукай, / загубленный в Казани, / Джалиль, / прославленный в Москве. / На Волге лед. Откуда пенье? / Идут по улицам втроем / Любовь. Надежда и Сомненье / в замерзшем городе моем» [Бухараев 2011, 71].
Белый цвет в поэзии Р. Хариса прочно связан с темой поэтического творчества. Так, в стихотворении «Приходит ночь – между мной и высями…» белая бумага становится залогом вдохновения: «Когда же я беру бумагу белую , / то душу прямо с кончика пера, / как крылья птиц, уносят мысли смелые – / в даль, где гудят поэзии ветра…» [Харис 2011, 57].
Оттенком белого цвета является и седина, которая часто напоминает о старости. В стихотворении «Уходят ветераны» Р. Харис ставит вопрос о нашей непреднамеренной вине перед памятью ветеранов: «Из года в год уходят ветераны. / Мы им так мало в жизни помогли… / Поистрепались тросы и арканы, / какими вдаль судьбу они влекли. / Из года в год уходят ветераны, / оставив в мире поседевших вдов. / Они глядят в вечерние экраны – / а видят тени прожитых годов» [Харис 2011, 78].
Белый цвет – это и цвет пены потока воды водопада. В стихотворении «Бурлящие воды» лирический герой Р. Хариса в лавине бурлящей воды, воспетой многими поэтами (вспомним оду «Водопад» Г. Державина), вместо песни ощутил боль от камней, которые терзают душу реки: «О вы, кто видит в реках лишь одно / кипенье белой романтичной пены ! / Перенесите мысленно их дно / в себя – в свои артерии и вены. / Что ощутите вы, когда из дна / покатит камень, вывернув, волна?..» [Харис 2011, 99].
Черный цвет, составляющий бинарную оппозицию белому / голубому / светлому, часто соотносящейся в контекстуальной оппозиции двух начал – темного и светлого, земного и божественного, Лжи и Истины, один из самых мифологизированных в тюркской культуре, имеет различную семантику. К примеру, в башкирской мифологии он обладает как положительной (цвет чернозема (плодородия), цвет оберегов), так и отрицательной (в верованиях, обычаях и обрядах – цвет потусторонних сил) символикой.
В творчестве Р. Мухамадиева черный цвет – цвет горя [Мухамадиев 2008, 85], а в рассказе Р. Зайдуллы «Тимер Буга» одежда черного цвета – элемент изображения мусульманской культуры, характеризующийся тем, что этот цвет «в почете в [мусульманском] халифате: подаренные одежды <...> были черного цвета. Хотя вообще-то булгарам не очень нравилось черное» [Зайдулла 2016, 284].
Знаменующий «глубочайшую бессознательность в противовес высшей сверхсознательности света» [Аминева 2007, 145], черный цвет находит широкое отображение в современной татарской лирике в различных значениях: грусти, душевной тяжести (Ч. Зариф «В рыжих волосах пасутся кони», Ф. Яруллин «Ты сказала: “Не верю, не верю…”» и др.); беды (Ф. Зиятдинов «Черное письмо»); плохого, греховного (Г. Мурат «Без полутонов»); души (Г. Мурат «Без полутонов»); пустоты (Сулейман «Окно») [Сулейман 2014, 127].
Однако многие поэты наряду с традиционными для татарской идентичности значениями колористических образов используют индивидуальные образы, обогащая цвето- и светообразы новыми ассоциациями.
В стихотворении «Беседа двух глухонемых» Р. Хариса черный цвет обозначает тьму ночи, нарушаемую светом лампочки фонарного столба, под которым беседуют глухонемые. Поэт оригинально осмысливает значение света как возможности для коммуникации, обыгрывая прямое и переносное, метафорическое значение слов «цвет» и «свет», преобразует свет лампочки в свет любви и взаимопонимания: «Черней чернил ночная улица. / Сутулится горбатый столб, качая слабенькую лампочку. / Под ней, беседуя без слов, / стоят друзья глухонемые, / друг другу жестами в глаза / влагая образы и смыслы» [Харис 2011, 42]. Оригинальный образ «видимый диалог глухонемых» поднимает философскую проблему мировоззрения «зрячих» и «слепых», «разговора глухонемых», которые мешают взаимопониманию, истинному общению: «Атас, ребята! Если кто / тот столб сутулый встретит ночью, / пусть не кидает в лампу камень, / мир погружая в темноту, – / иначе как глухонемые / свою беседу довершат? / Они решат, что мир бездушен, / что свет любви навек потушен, / и дружно вместе поспешат / искать другой источник света, / чтоб были в нем видны слова. / Но зрячим это – трын-трава…» [Харис 2011, 42–43]. В стихотворении тьме («черней чернил») противопоставлен разноцветный дневной мир в пестром буйстве красок: «Мы рады разноцветным флагам, / Мы ценим пестрые наряды. / Мы любим в ярко-синем небе / парящих белых голубей. / Но мы не ценим, хоть убей, / значенье света для общенья!» [Харис 2011, 42]. Стихотворение современного татарского поэта интересно тем, что цвето- и светообразы становятся практически предметом поэтического осмысления, своеобразной лингвистической игрой, в ходе которой приобретают новые оттенки значения. А шутливая интонация скрывает заложенный в стихотворении глубокий философский смысл о душевной глухоте людей.
Голубой цвет, во многих языках относящийся к древнейшим лексемам, в тюркском восприятии характеризуется общностью для синего и зеленого цветов, обозначается словом «күк» («небо»), что характерно для тюркских, монгольского, корейского, японского и некоторых индоевропейских языков. «Небесно-голубой», как отмечает Ш.К. Жаркынбекова, мир кочевников оставил след в мироощущении и национальном характере: спокойствие души, бесхитростная откровенность во взаимоотношениях с людьми, вера в добро – эти качества закодированы в символических значениях небесно-голубого цвета. Неслучайно, особым вниманием пользуется эпитет «голубой», который «всегда был в центре космогонических взглядов тюркских племен» [Бакиров 2001, 343], он был связан с культом неба как места обитания бога Тэнгри: в тюркских языках значение понятия «небо» часто передается с помощью омонима слова «голубой».
В связи с вышесказанным синий цвет находит широкое отображение и в современной татарской лирике, где приобретает значения: цвета неба (К. Булатова «К тебе возвращаюсь», Л. Лерон «Все чего-то жду», А. Маликов «Прохожу по твоим следам», Н. Сафина «Иного не надо»); красоты (К. Булатова «К тебе возвращаюсь»); разлуки (Р. Закиров «Глубокие следы»); символики ночи (С. Маннапов «Глазоньки твои – синь ночей…»).
В культуре различных народов символика желтого цвета достаточно широка: символ царственности, достоинства, центра – в Китае [Трессидер
1999, 125], признак негативной оценки, символ смерти, «преобладает в природе во второй половине года: цвет зрелых колосьев, засыхающих растений, преддверья зимы, холода, поэтому может быть связан с потусторонним миром» – в русском фольклоре [Раденкович 1989, 139].
Кроме того, в тюркской культуре семантика желтого цвета, часто связывающегося с мифологическим образом Луны, определяется как цвет тоски, грусти, болезни, богатства; желтый цвет имеет сложную семантику: как положительную (цвет солнца, золота, топленого масла), так и доминирующую в национальной культуре отрицательную (цвет тоски, грусти болезней).
Исследуя семантику цветообозначения «желтый» в современной татарской поэзии, А.Ш. Василова отмечает, что у современных татарских писателей его символика связана с цветом осенних листьев и соответству-щих чувств и настроений (А. Гадель, Г. Афзал), мотивов тоски, грусти, увядания (Ш. Бикол), разлуки (С. Хаким, М. Джалиль), часто подобное психологическое состояние усиливается в контексте лексем чужбины и времени (М. Апсаламов).
В повести М. Кабирова «Тайна желтых домов» автор рассказывает истории Мадины-эби, людей, живущих в желтых домах, мифологическую историю мессии. Действие повести проходит в типичных для окраин промышленных городов желтых домах, бараках. Интересна в данном контексте символика Желтого цвета, в татарском языке являющегося переносным названием домов для сумасшедших, жители которых называются автором «рабами», людьми, забывшими о своем роде, племени, оставившими своих матерей, живущими в страхе.
Часто в современной поэзии неотъемлемой частью татарской природы, символами Родины, родной природы выступают образы желтого соловья и желтого подсолнуха, в татарской лирике по форме связывающегося с образом Солнца (М. Файзуллина «Подсолнух» (пер. В. Казаковой)). Образ Соловья в татарском баите «Сак-Сок» выражается в образе «желтого соловья», оторванного от родины, где ему пелось вольно, широко, он пожелтел от горя в чужих землях, не найдя места для пения [Гарифуллина 2005, 141]. Позже, к примеру, образ Сак-сок в значении грусти используется в книге Р. Хафизовой «Грустная песня».
Кроме того, как отмечает А.Ш. Василова желтый цвет традиционно используется в художественной словености в характеристике психологического и физического состояний человека, болезни . Исследователь приходит к выводу, что «в татарском языке на восприятие желтого цвета влияют природные ассоциации (с одной стороны – цвет солнца, золота, а с другой – цвет луны, желчи, нездоровой кожи), <...> а в татарской поэтической системе создаются цветовые метафоры, ставшие народно-поэтическими символами (разлуки, грусти, тоски по родной земле, родной природе)» [Василова 2016, 1305].
Символика желтого цвета как цвета грусти, тоски обнаруживается и в современной татарской лирике (Л. Лерон «Цвет тоски» (пер. С. Малышева) [Татарская литература… 2017, 216]) и прозе: в романе Р. Мухамади-ева «Взлететь бы мне в небо…» желтый цвет характеризует грусть, тоску человека: «Отчего ты желтым стал – / Соскучился, что ли?» [Мухамадиев 2008, 58]; «Человек соскучится, пожелтеет от тоски» [Мухамадиев 2008, 160]. Героиня повести Н. Гиматдиновой «Грустить не буду», Сандугач, «все время грустит и думает. Скоро совсем пожелтеет от тоски» (перевод Г. Хасановой) [Татарская литература… 2017, 129].
Близкий мотиву Огня в тюркской культуре красный цвет – символ «здоровья, огня, достатка, плодовитости, чистоты, праздника», который может иметь как положительную (оберегающую, продуцирующую функцию), так и отрицательную (присутствует в названиях «цветных болезней») семантику. Красный цвет является характеристикой промежутка времени «начала вечерних сумерек, заката» [Хисамитдинова 2019, 268], когда, по поверьям, активизируются нечистые силы, духи болезней и т.п.
Красный цвет – неотъемлемый элемент изображения фольклорных образов в современных произведениях. Например, в дилогии Ш. Идиатуллина «Убыр», где подвергшиеся влиянию существа мифологии тюркских народов люди характеризуются худобой («оба [родителя] похудели, можно сказать страшно» [Идиатуллин 2018, 65]), как и убыр, одеждой красного цвета («красная кофта») [Идиатуллин 2018, 362].
Ассоциативную связь с Огнем приобретает символика красного цвета и его богатой цветовой палитры в значении любовного пламени в поэме «Художник» Р. Хариса в изображении женского образа: «кистью слегка прикоснулся – / лег на пригожие щеки отсвет румяной зари. Нежное ухо возникло. Мочка – как алая капля, / кажется, капнет сейчас… / Жаркими в жажде губами каплю бы эту поймать!» [Галимуллина 2007, 98] .
Отметим, что поэзия Рената Хариса характеризуется живописностью, обилием использования цвето- и световых образов, метафорической колористической поэзией. Как, к примеру, в стихотворении «Строку стиха согнув, как луг тугой…»: «Строку стиха согнув, как луг тугой, / вложил я слово огненной стрелою – / чтоб, над землею пролетев дугой, / оно сожгло все грешное и злое…» [Харис 2011, 39]. Метафорическое сравнение поэтического слова с огненной стрелой подчеркивает его боевой дух, жизненную энергию, которую вкладывает поэт в каждую строчку своих произведений. Здесь вспоминаются и строки из пушкинского «Пророка» («…глаголом жечь сердца людей…»), в то же время в современном мире поэты-пророки не востребованы, поэтому в следующей строфе вместо огромного костра-пламени, охватившего весь мир, лирический герой – поэт-пророк – сжигает себя над «страницей белой»: «Еще момент, я думал, и вокруг – / мир завизжит в огне, как угорелый… / Но всюду – тихо. И лишь сам-друг / себя сжигаю над страницей белой» [Харис 2011, 39]. Белый цвет – холодный, безучастный, гасит поэтический пламень.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что современные татарские писатели используют в своих текстах богатую цветовую палитру, наиболее часто в их творчестве встречаются традиционные для татарского народа белый, зеленый и синий / голубой цвета, хотя и другие цвета и их оттенки также используются для создания художественной образности: желтый, красный, черный. Зачастую цветовые образы приобретают символическое значение, особенно в случаях описания явлений, воплощающих в себе татарские национальные и культурные коды (праздники Науруз, Сабантуй, свадебный обряд и т.д., также в описаниях белого полотенца, образа дома, традиционных татарских блюд). Современные татарские писатели творчески подходят к освоению традиций татарского фольклора и классической татарской литературы, поэтому наряду с колористическими образами, традиционными для татарской национальной идентичности, они создают оригинальные индивидуальные цветообразы, обогащая цветовые ассоциации. В нашей статье мы рассмотрели такие случаи на примере творческого подхода к использованию белого и черного цветов, тем более что многие писатели в своих произведениях включают их как контрастную пару «белый / черный».
Данная статья является одной из первых попыток обобщения специфики использования цветообразов современными татарскими писателями. На данном этапе наши наблюдения над частотностью использования татарскими писателями лексики затруднены тем, что очень мало книг, сборников стихотворений и прозы оцифровано, размещено в Интер-нет-ресурсах; доминирующее большинство художественных текстов на татарском языке издано и распространяется в книжных изданиях и в журнальных публикациях.
Список литературы Цветообразы в художественно-колоративной системе современной татарской литературы
- Абузяров И. Концерт для скрипки и ножа в двух частях: сборник. М.: Издательство «Э», 2017. 480 с.
- Алексеева Л.А. Поэтика цвета в лирике М.И. Цветаевой // Молодой ученый. 2015. № 20(100). C. 584–586.
- Аминева В.Р. Суфийский код поэтики повести Г. Рахима «Идель»: к постановке проблемы // Суфизм как социокультурное явление в российской умме: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород: Медина, 2007. С. 142–159.
- Бакиров М.Х. Древнетюркская поэзия. Казань: Татарское книжное издательство. 2014. 390 с.
- Бакиров М.Х. Семантика цвета в контексте истории, искусства и художественной словесности тюрков // Филология и культура. 2015. № 1(39). С. 114–119.
- Бакиров М.Х. Татарский фольклор. Казань: Ихлас, 2012. 400 с.
- Бакиров М.Х. Шигърият бишеге: Гомумтөрки поэзиянең яралуы hәм иң борынгы формалары. Казан: Мәгариф, 2001. 343 б.
- Бедарева И.А. Цвет и свет в лирике Г.В. Кондакова (на материале циклов «Алтай мой – колокол земли», «Праздник росы») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12–3(78). С. 19–22.
- Бочкарева Н.С. Символика цвета в романе Джулиана Барнса «Метроленд» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. № 2. С. 181–185.
- Бояркина А.А. Репрезентация зеленого цвета в публицистических текстах посредством английских и немецких существительных и глаголов // Litera. 2023. № 4. С. 131–144.
- Бояркина А.А., Попова Л.Г., Шведова И.В. Символика синего / голубого цвета в английских и немецких публицистических текстах // Litera. 2021. № 10. С. 61–72.
- Бухараев Р.Р. Избранные произведения: Книга стихов. Казань: Магариф-Вакыт, 2011. 415 с.
- Валиева М.Р. Символика цвета и ее роль в романе «Иргиз» // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 10(420). С. 34–41.
- Василова А.Ш. Семантика цветообозначений сары (“желтый”) в татарской поэзии // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. Кн. 5. С. 1300–1307.
- Габбасова Г.З. Цветообозначение в татарской художественной речи // Язык и литература в поликультурном пространстве: материалы региональной научно-практической конференции. Вып. 2. Бирск: БирГПИ, 2005. С. 23–28.
- Галимуллин Ф.Г., Галимуллина А.Ф. Художественная картина мира Рената Хариса. Казань: Издательство Казанского университета, 2021. 200 с.
- Галимуллина А.Ф. Образ Обнаженной в поэме Р. Хариса «Рәссам» («Художник») // Проблемы филологии народов Поволжья. Межвузовский сборник научных статей. Вып. 1. М.; Ярославль: Ремдер, 2007. С. 95–103.
- Галиуллин Т.Н. Акыл һәм хис берлеге шагыйре (Р. Хариска 70 яшь) // Ренат Харис һәм татар шигърияте. Казань: Идель-Пресс, 2011. С. 10–28.
- Гарифуллина К.Н. Национально-мифологические основы татарской народной песни: дис. … к. филол. н.: 10.01.09. Казань, 2005. 236 с.
- Дарененкова В.С. Символика цвета в рассказе А.С. Байетт «Существо в лесу» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 4. С. 191–201.
- Девицкая Е.Н. Символика красного цвета в русском и немецком сказочном фольклоре // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2013. № 1(114). С. 120–124.
- Дюпина Ю.В., Шакирова Т.В., Чуманова Н.А. Формы и содержание цветовой символики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 1. С. 187–189.
- Елибаева К.Ж. Символика и семантика цвета в казахской культуре // Вестник Московского государственного университета культуры. 2012. № 4(48). С. 60–66.
- Загидуллина Д.Ф. Ренат Харис лирикасында образ тудыру үзенчәлекләре: аллегориядән – символга // Ренат Харис һәм татар шигърияте. Казань: Идель-Пресс, 2011. С. 58–62.
- Зайдулла, Р.Р. Меч Тенгри: рассказы, повести, эссе, заметки. Казань: Татарское книжное издательство, 2016. 880 с.
- Замалетдинов Р.Р. Татарская культура в языковом отражении. М.; Казань: ВЛАДОС, Магариф, 2004. 239 с.
- Иванова Ю.В. Цветообозначения в структуре поэтического текста и подходы к исследованию // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2007. Т. 22. № 53. С. 112–118.
- Идиатуллин Ш. Убыр: Дилогия: романы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикс, 2018. 580 с.
- Исхакый Г. Курбан гаит // Аргамак. 1998. № 2. С. 119–138.
- Козлова Н.Н. Цветовая картина мира в языке // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, история, востоко-ведение. 2010. № 3. С. 82–88.
- Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. М.: Наука, 1978. С. 159–179.
- Косинцева Е.В. Символика цветов в хантыйской лирике // Вестник угро-ведения. 2019. № 4. С. 653–662.
- Крашенинникова Ю.А. Символика цвета в русской свадьбе: синий в свадебных приговорах // Вестник Вятского государственного университета. 2009. № 3. С. 107–112.
- Кулинская С.В. Символика цвета в романе Голсуорси «Сага о Форсайтах» // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2008. № 1. С. 140–143.
- Мамбеталиева Г.М. Интерпретация невербальных средств коммуникации в эпосе «Манас» // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2016. № 5(56). С. 65–69.
- Маршалова И.О. Символика цвета в романе Андрея Белого «Московский чудак» // Филология и культура. 2011. № 26. С. 243–246.
- Мельничук О.А., Руфова Е.С. Символика цветового эпитета «белый» в японских и якутских художественных произведениях (на материале поэзии Такамура Котаро и Ивана Гоголева) // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019. № 5(73). С. 101–108.
- Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. М.: Кругъ, 2012. 464 с.
- Мухамадиев Р. Свои люди. Избранное. М.: Дружба литератур, 2012. 637 с.
- Мухамадиев Р.С. Взлететь бы мне птицей… / пер. с татарского Р. Фаткуллиной. М.: Голос-Пресс, 2008. 237 с.
- (а) Павлова Л.В., Романова И.В. «Цветная» составляющая частного словаря «армянского текста» // Litera. 2022. № 12. С. 20–32.
- (b) Павлова Л.В., Романова И.В. Синий цвет в армянском тексте русской поэзии (интерпретация данных программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15. № 12. С. 3732–3738.
- Парамонова Л.Ю. Мифопоэтика цвета в лирике русских символистов: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Екатеринбург, 2017. 23 с.
- Раденкович Л. Символика цвета в славянских заговорах // Славянский и балканский фольклор. М.: Наука, 1989. С. 122–148.
- Родина С.А. Свет в художественно-колоративной системе лирики С.А. Есенина, 1919–1925 гг.: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. М., 2001. 195 с.
- Руфова Е.С. Символика черного цвета в творчестве поэтов якутской и японской литературы (на материале поэзии Ивана Гоголева и Такамура Котаро) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2022. № 3. С. 44–49.
- Сабирова Г.А. Цвет в творчестве татарских писателей-импрессионистов начала ХХ века // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 2007. № 4. С. 146–148.
- Самарина Л.В. Роль культурного компонента в семантике метафоры. М., 1996. 225 с.
- Сафина Л.М. Стильный образ Рената Хариса. М.: Перо, 2021. 203 с.
- Ситдикова А.Ф. К вопросу определения базового концепта «Төс» и его семантического поля на примере цветообозначения в татарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 5(23): в 2 ч. Ч. 1. С. 163–168.
- Сулейман. Знаки времен: Поэма и стихи. Казань: Магариф-Вакыт, 2014. 127 с.
- Татарская литература без границ. Казань: Татарское книжное издательство, 2017. 463 с.
- Татарская поэзия. М.: ООО МАГИ Из века в век, 2012. 701 с.
- Трессидер Д. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 448 с.
- Харис Р. Певчая ночь / пер. с татарского Н. Переяслова: М: Вече. 2011. 240 с.
- Харисов Р. Сайланма әсәрләр: в 7 т. Т. 3: Избранные сочинения. Казань: Татарское книжное издательство, 2006. 511 с.
- Хасанов О.А. Символика цвета в повести В.Я. Зазубрина «Щепка» // Вестник Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. 2017. № 1(39). С. 227–231.
- Хисамитдинова Ф.Г. Словарь башкирской мифологии. Уфа: Китап, 2019. 432 с.
- Юсупова Н.М. Фольклорные символы как источник символизации у татар (на материале орнитоморфной и цветовой символики) // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2016. № 4(53). С. 139–146.
- Юшкина Е.А. Поэтика цвета в творчестве М.А. Булгакова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2007. № 5. С. 131–134.