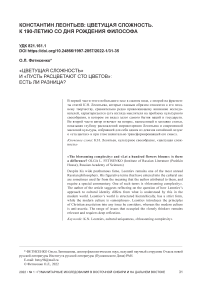"Цветущая сложность" и "пусть расцветают сто цветов": есть ли разница?
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Константин Леонтьев: Цветущая сложность. К 190-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В первой части этого небольшого эссе в сжатом виде, с опорой на фрагменты статей К.Н. Леонтьева, которые главным образом относятся к его позднему творчеству, сравнительно редко привлекающему внимание исследователей, характеризуется суть взгляда мыслителя на проблему культурного своеобразия, в котором он видел залог самого бытия наций и государств. Во второй части автор отвечает на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, показывая глубину расхождений мировоззрения Леонтьева и современной массовой культуры, избравшей для себя одним из девизов китайский лозунг о «ста цветах» и при этом значительно трансформировавшей его смысл.
К.н. леонтьев, культурное своеобразие, «цветущая сложность»
Короткий адрес: https://sciup.org/170194583
IDR: 170194583 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/31-35
Текст научной статьи "Цветущая сложность" и "пусть расцветают сто цветов": есть ли разница?
Л.Н. Толстой, говорил, что К. Н. Леонтьев «стоял головой выше всех русских философов» [7, с. 352], что он в своих статьях «все точно стекла выбивает»1, но это автору «Войны и мира» очень нравится. Все это высказано, напомним, при огромных идейных и, главное, религиозных расхождениях двух писателей2, и тем дороже подобное признание.
Леонтьев в своих трудах учит нас «читать живую книгу современной истории» [4, с. 446], постигать тонкие «психические» взаимовлия-ния3, приобретаемые обществами «душевные навыки»4. Леонтьевские пророчества, «диагнозы» и «рецепты» ценны тем, что даны, по его выражению, «без всяких лжегуманных жеманств» [4, с. 455].
Заветная цель Леонтьева, по выражению его ученика и биографа о. Иосифа Фуделя, «направить всю жизнь на путь бóльшей красоты и выразительности», проложить новые «пути жизни» (цит. по: [10, c. 24]).
Своими наибольшими заслугами Леонтьев считал начатую на Афоне книгу «Византизм и славянство», где предложено «почти математическое средство для определения возраста и падения Государств» [2, с. 10], статьи, предупреждающие об опасностях панславизма и подводных рифах «национальной политики», а также «опыт национальной психологии» – статью «Русские, греки и юго-славяне». В его автохарактеристиках (из составленных им от третьего лица записок о своем творчестве) выделены такие свойства, как « дальновидность определений», «ясно изложенные взгляды на нашу текущую политику», «совершенно новый и смелый взгляд на историю Государств и обществ», «религиозное чувство», которое «просвечивает везде» [2, с. 11, 24, 26].
Знакомясь с Леонтьевым, не следует ограничиваться «Византизмом и славянством», откуда и взят термин, давший название прошедшему 26 ноября 2021 г. во Владивостоке круглому столу. У этого мыслителя важны все, даже са- мые маленькие заметки, не говоря уже о таких циклах, как «Письма о Восточных делах», «Записки отшельника», о брошюре «Наши новые христиане» и других работах. Для более глубокого понимания проповедуемой им «эстетики жизни» небесполезно познакомиться и с его беллетристикой. Протоиерей И.И. Фудель писал об этом так: «Для того чтобы уяснить себе точку зрения этого “художника мысли” и увидеть в его писаниях не одно только собрание парадоксов, а глубокое и цельное мировоззрение, необходимо, изучив все написанное К. Леонтьевым, перевести на логический язык его художественную мозаику и сложить в своем уме все это в некоторую систему» [9, с. 362–363].
Леонтьев выдвинул идею необходимости построения новой культуры и указывал, « где должно искать для нее начал » [1, с. 278] – формулировка А.А. Александрова, одного из близких учеников К.Н. Леонтьева. Александров продолжал: «Он требует от России, главной представительницы православного Востока, создания новой культуры , имеющей прийти на смену отживающей романо-германской, и верит, что она ее создаст. <…><Начала византизма>, значительно уже усвоенные нами, остается только развить и довести до пышного своеобразного цвета» [1, с. 278].
Политическое направление Леонтьева, по его собственному определению, было «прогрессивно-охранительным». Его проекты предполагали ряд смелых социально-экономических реформ (вплоть до «социалистической монархии»), а идея «эстетики жизни», которая должна господствовать над вторичной «эстетикой отражений», выделяла его из общего ряда охранителей, делая скорее предшественником эпохи модерна. От большинства представителей консервативного лагеря его отличало и понимание приоритета церковного над государственным и национальным.
Своей жизненной задачей Леонтьев считал проповедь «новой восточной культуры», своеобразной и антитетичной (от слова «антитеза») по отношению к современной западной культуре. Прямых своих предшественников Леонтьев видел в старших славянофилах и Н.Я. Данилевском (с последним он, впрочем, шел параллельно и книгу «Россия и Европа» прочитал в 1869 г. уже как подтверждение собственных догадок). Кроме того, он испытал сильное влияние А.И. Герцена и Д.С. Милля (в части его учения о разнообразии и развитии).
Идеал Леонтьева: культурное своеобразие, умственная независимость5, новое представление об историческом назначении России, «разнообразие и сложность ( не орудий всесмешения, а самого социального материала )» [4, c. 629].
Взгляды Леонтьева на проблему «своеобразия» сложились к концу 1860-х гг. и обогатились знакомством с византийской культурой Афона и бытом христианского и мусульманского Востока. К началу 1880-х гг. философские и культурологические представления Леонтьева оформились в стройное учение, получившее название «гептастилизм» (см.: [10]); название это тогда, впрочем, было известно лишь немногочисленным ученикам, в произведениях для печати философ его не использовал.
Как уже было сказано, одна из констант леонтьевской публицистики – проповедь необходимости большего бытового своеобразия и преобладания «эстетики жизни» над «эстетикой отражений». В наше время «цветущую сложность» былой «эстетики жизни» можно увидеть разве что в музеях (этих «кладбищах культуры») и на фольклорных фестивалях. Это видимость культурного цветения, никак не связанного с действительной жизнью.
Леонтьев испытывал большой интерес ко всему «внешнему» (начиная с облика человека). Он понимал, «что в самых внешних формах быта выражается дух народа и времени» [4, c. 219], что привычки, вкусы, моды – «все это вовсе не внешность одна, а неизбежное выражение глубочайших внутренних потребностей» [4, с. 16], а « изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе » [3, с. 130]. «Поверьте, это не пустяки, – восклицал он, – эта внешность; это очень важно! Эта внешность – есть выражение еще неясно понятого какого-нибудь внутреннего психического закона. <…> Не будет нового внешнего стиля в жизни , – значит, не будет уже никогда и нового духа …» [4, с. 632].
Напомню леонтьевское определение культуры из «Писем о Восточных делах»: «…Под словом культура я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т.п., а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом мировая культура я разумею: целую свою собственную систему отвлеченных идей религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических…» [4, с. 50].
В сжатом виде его учение сводится к идеям « теократии, сословности, монархизма, аристократизма и порабощения » [4, с. 410]. Если же его редуцировать до триады по образцу уваровской «Православие – самодержавие – народность», то программа Леонтьева будет выглядеть так: «незыблемость Самодержавия; укрепление Церкви <…>, утверждение и развитие общины » [4, с. 105], или же (в перечислении отличающих одну нацию от другой « культурных признаков »): «религиозные отличия <…>, резкие отличия в государственных учреждениях и, наконец, если возможно, то и внешне-бытовые отличия» [5, с. 29]6.
Леонтьев задается вопросом: «Спасемся ли мы государственно и культурно?» Или мы призваны «окончить историю – погубив человечество»? [4, с. 201]. Проповедь культурного своеобразия (в последние годы Леонтьев использовал для них в своем «домашнем обиходе» еще один грецизм: «идиотропизм»7) тесно увязывается в последние годы его жизни с эсхатологической проблематикой. Ученик Леонтьева передавал его мысль так: «Или мы будем культурно оригинальны (хоть на 200 лет) или нет. В последнем случае <…> даже само христианство погибнет. <…> А если мы бу- дем культурны, то отдалим эту развязку еще на несколько столетий» (цит. по: [10, с. 90]).
Современному человеку, вероятно, трудно отличить леонтьевскую «цветущую сложность» от мультикультурализма или от далеко ушедшей от своего первоначального смысла идеи расцветания «ста цветов». С историческим китайским «прототипом» маоистского лозунга, относящимся к эпохе Цинь Шихуана, какое-то сходство у леонтьевской формулы есть лишь в том, что, когда во II в. до н.э. придумали постулат «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», подразумевалось, что все это должно происходить в едином сильном государстве (ср. с излюбленной формулой Леонтьева «разнообразие в единстве»; «Разнообразие в возрастающем единстве власти» [4, с. 455]). Но кончилось тогда в Китае это «расцветание» уничтожением «лишних» книг (правда, Леонтьев, как известно, и султана Омара не осуждал – того самого, кто считал, что хватит с человечества одного Корана8).
А вот с современным (расхожим, «бытовым») пониманием пышного цветения «ста цветов» расхождения у Леонтьева громадные. Ведь «сто цветов» стали в наше время прежде всего лозунгом толерантности без границ и редуцировались до радуги ЛГБТ-движения.
Леонтьевым предлагается иерархически выстроенная, жестко – даже деспотически – организованная и скрепленная структура (однако с внутренней свободой и подвижностью – например, с возможностью по заслугам переходить в высшее сословие). Современная культура – по Леонтьеву, «всепринижающий прогресс» (ср.: [4, с. 444]) – прежде всего аморфна , правда за этой аморфностью и размытостью «безыдейности» все отчетливее теперь просматривается управляющая рука (хаос – «управляемый»).
Кроме того, Леонтьев показал, что кажущаяся самобытность, перерождаясь, приводит к упадку самобытности действительной. Этот процесс он многократно анализировал на примере национальных движений: девятнадцатый век – век национально-освободительных движений, построения национальных государств и одновременно возникновения империй. И оказывается, по Леонтьеву, что видимый процесс разделения, роста «самобытности» оборачивается тем, что все страны и народы становятся похожи друг на друга в культурном отношении («всеобщая ассимиляция», «вторичное смесительное упрощение»).
Еще одна закономерность, рассматриваемая Леонтьевым в разных плоскостях (от семейной жизни до судеб цивилизаций и конфессий): «Охлаждение к идеалу высшему, отвращение к его крайностям влечет за собою очень скоро глубокий упадок и того среднего состояния, которое сначала большинству казалось достаточным» [4, с. 437].
В качестве примера Леонтьев приводит судьбу протестантства. При своем возникновении оно казалось чище и святее католицизма, но, не имея тех «центров накопления религиозных сил», от которых могло бы исходить «подновляющее действие», усреднилось и разлагается быстрее католицизма, у которого еще есть возможность возрождения [4, с. 438].
Круг вопросов, занимавших «одинокого мыслителя» и «литературного изгнанника», не только остается актуальным через 130 лет после его кончины, но приобретает все большую заостренность и требует глубокого осмысления. Точность его политического прогнозирования, дерзновение его философской мысли делают писателя актуальным собеседником думающих людей самых разных национальностей, специальностей, вкусов и пристрастий. В эпоху глобальных вызовов в текстах Леонтьева вдумчивые читатели проходят школу философской диагностики, позволяющей понимать смысл и возможный сценарий развития происходящих в мире событий, обретают ценностные критерии, получают «прививку» от шаблонности мышления и, подобно С.Н. Дуры- лину, испытывают «около Леонтьева» «восторг <…> суровой ясности»9.
Список литературы "Цветущая сложность" и "пусть расцветают сто цветов": есть ли разница?
- Александров А. К.Н. Леонтьев (по поводу статьи о нем в "la Nouvelle revue") // Русский вестник.1892.№ 4. С. 275-284.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 6. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2004.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2009.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 12. Кн. 3. СПб.: Владимир Даль, 2021.
- Маковецкий Д.П. У Толстого (1904-1910). Яснополянские записки. Книга первая (19041905). М.: Наука, 1979.
- Посадская О.А. Творческий диалог Л.Н. Толстого и К.Н. Леонтьева: Проблема общности и своеобразия: дис. канд. филол. н. Краснодар, 2007.
- "Преемство от отцов": Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания. СПб.: Владимир Даль, 2012.
- Фетисенко О.Л. "Гептастилисты": Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины xix - первой четверти ХХ века). СПб.: Издательство "Пушкинский Дом", 2012.