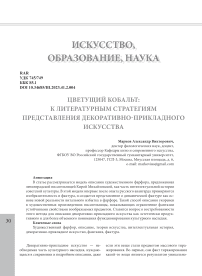Цветущий кобальт: к литературным стратегиям представления декоративно-прикладного искусства
Автор: Марков А.В.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается модель описания художественного фарфора, предложенная ленинградской писательницей Кирой Михайловской, как часть интеллектуальной истории советской культуры. В этой модели впервые после опыта русского авангарда примиряются изобразительность и фактура, и создается представление о динамической фактуре как основе новой реальности витального избытка в фарфоре. Такой способ описания укоренен в художественных произведениях писательницы, показывающих ограничение фантазии устойчивыми свойствами воображаемых предметов. Ставится вопрос о востребованности этого метода для описания декоративно-прикладного искусства как эстетически продуктивного и для более объемного понимания функционирования культурного наследия.
Художественный фарфор, описание, теория искусства, интеллектуальная история, декоративно-прикладное искусство, фантазия, фактура
Короткий адрес: https://sciup.org/170199921
IDR: 170199921 | УДК: 745/749 | DOI: 10.34685/HI.2023.41.2.004
Текст научной статьи Цветущий кобальт: к литературным стратегиям представления декоративно-прикладного искусства
Декоративно-прикладное искусство — необходимая часть культурного наследия, нуждающаяся в сохранении и подробном описании, даже если эти вещи стали предметом массового тиражирования. Во-первых, сам факт тиражирования какой-то вещи является результатом уникально- го решения, которое и должно изучаться как уникальное и описываться так же, как мы описываем уникальные предметы искусства. Во-вторых, сам тираж может быть утрачен, особенно когда речь идет о таких хрупких вещах, как фарфор, и массовое тиражирование может как снизить ценность предмета, так и исключить возможности его специального сохранения в быту — библиофилами хорошо изучено явление лучшей представленности в коллекциях малотиражных книг в сравнении с многотиражными1. В-третьих, любой эксперимент в декоративно-прикладном искусстве, даже связанный с расширением и удешевлением производства, является уникальным и в этом смысле заслуживает серьезного описания, позволяющего сохранить изделия как ближайшие результаты такого эксперимента.
Все эти требования всецело относятся к фарфоровой промышленности, по причине хрупкости объектов, частоты экспериментов и противоречия между требованиями массового производства и специфическим самосознанием производителей, восходящим к временам хранения секретов производства. И химический эксперимент, и необычное решение оказываются частью реализации профессионализма, при соперничестве с теми искусствами, которые никто не назовет прикладными. У такого соперничества появляется и документация, которая и показывает, как из концепции, которую отстаивает данный мастер, появляются как уникальные вещи, заслуживающие всемирного представления, так и тиражируемые вещи или элементы.
В данной статье мы рассматриваем книгу «Цветущий кобальт» Киры Михайловской2 как образец документирования фарфорового производства. Эта книга впитала в себя свойства производственного романа, того жанра, в котором Михайловская работала как профессиональная писательница и киносценарист. В книге дается слово самим мастерам, которые как выясняется, укореняют ту самую большую концепцию в мировом искусстве, осуществляя диалог с величайшими именами прошлого и настоящего.
Этот диалог не выглядит как амбициозное заявление, но только как единственный способ объяснить, как соотносятся эксперимент, создающий новую эстетическую ценность, и художественный навык, который и заслуживает увековечения в виде тиража или уникального музейного изделия. Простодушно обращающася к опыту Джотто или Рафаэля самомузеефикация мастеров ленинградского фарфора выглядела бы амбициозной. Но эти мастера рассуждают, какое впечатление производили произведения прошлого на зрителей, и где здесь была функция уникальности, где — функция воспроизводимости, в том числе воспроизводимости впечатлений, а где — функция эксперимента, как захватывающего компетентного зрителя, и это уже не часть амбиций, а просто предельно живого разговора.
Гипотеза нашей статьи состоит в том, что К. Михайловская, располагая хорошим литературным инструментарием, восходящим к производственному роману и детской литературе о фантазирующих школьниках, позволяет героям своего повествования высказать собственную концепцию, свои наблюдения над соотношением декоративно-прикладного искусства с другими видами искусства, встраивая эти замечания в искусно устроенный аргумент. Сам по себе художник, говорящий, что, условно, тень в старой живописи могла производить то же впечатление, что блик на его фарфоровом изделии, может просто следовать своим учителям или старшим наставникам, бравшим под руку эстетические примеры из фонда истории мирового искусства. Но как только речь художника попадает в обработку писателя, который должен объяснить общие заслуги художника, представить наглядно всё дело художника, — как прежние наставнические параллели превращаются в развитую концепцию, которая и способна стать ключом к музеефикации изделий.
Такое объяснение общих заслуг требует на время «включить» фантазию, представив мысленно намерение художника, например, намерение создать сказку — намерение не просто использовать сказочные мотивы и сюжеты, но творить то, что будет описано только словом «сказка» как по образно-тематическим, так и фактурным признакам. Всё будет выглядеть сказочно и ощущаться сказочно. Но эта фантазия должна уступить концепции, которая и объяснит, как именно такой эффект оказывается не результатом додумывания писателем или особого чувства зрителя в музейном пространстве, но необходимым основанием самого музейного присутствия вещи. Здесь сам способ изложения и представления вещи и ограничивает фантазию, показывая, что намерение художника было реконструировано с ее средствами, а сами традиции искусства к фантазиям не сводятся, и учит ее запускать, глядя, как еще может вспыхнуть фантазия, например, когда вещь покажется не только «сказочной», но и «праздничной». Иначе говоря, когда вещь перестанет служить проекту, отдельные части которого могут показаться даже страшноватыми, как слишком выразительными, и станет частью взгляда на границы действительности и фантазии благодаря уже умению приводить в движение и эффекты действительности, и эффекты фантазии.
Кира Михайловская имела преимущество перед другими писавшими о декоративно-прикладном искусстве авторами: она была профессиональным детским писателем, автором детских книг, как и взрослых производственных романов. В детских книгах Михайловской, среди которых особой популярностью среди читателей пользовались и продолжают пользоваться «Неутомимый Морошкин» и «В другой раз», очень изобретательных, есть сквозной сюжет: противоречивая фантазия ребенка вполне способствует беспрепятственному развитию действия, благодаря использованию как действительных, так и воображаемых предметов; тогда как результат получается противоречивым, и именно здесь происходит перелом от действия к осознанию реальности порядка вещей и самого значения своей фантазии.
Условно, ребенок вполне может вообразить себя паровозом, который едет без рельсов, и бегать, воображая себя паровозом, но он не может вообразить себя также автомобилем, это будет противоречие сверхприсутствия, по-своему пугающего. Разрешение противоречия, путем фантазирования, где и как бывают рельсы, принятия реальности не только пыхтящего паровоза, но и реальных рельсов и воображаемых рельсов, с одной стороны, раскрывает мир взрослой техники, а с другой стороны — позволяет перейти к следующему действию, еще более фантазийному, связанному уже с возможным будущим устройством железных дорог. Таким образом, действуя, ребенок наследует некоторым общим правилам поведения детей, которые и опознаются в таком качестве читателями, но натыкаясь на противоречие самой имитируемой вещи, самого следования себя своим же правилам, ребенок создает уникальную конфигурацию мечтаний и намерений, которые и становятся неотъемлемой частью концепции детства.
Как только мы открываем едва ли не любую главу книги «Цветущий кобальт» о ленинградском фарфоровом производстве, как мы встречаем такое же движение. Любой мастер из ставших героями этой книги стремится реализовать свои фантазии, в том числе экспериментируя с материалами и красителями. В этой фантазии он рвет с прежними установками, которые диктовались материалом, пусть даже они приводили к самым выдающимся результатам. Мастер упирается в то, что сам фарфор не может быть просто вместилищем экспериментов, даже если динамика работы с фарфором создает нечто невероятное и уникальное. Необходима определенная риторика, которая только и позволит воспринять новую концепцию, такую вторую фантазию. Эта книжная риторика в конце концов и оформит эту концепцию так, что мы будем понимать и несомненную музейную ценность вещи, и возможность тиражирования при определенных условиях. Тем самым прежняя параллель с великими мастерами, даже самая захватывающая, была такой же неосновательной, как, скажем, мечта ребенка летать как самолет. Но благодаря фактурности этой мечты, при определенном вскрытии противоречий в фактурных решениях и создании новой риторики, позволяющей увидеть в работе с фактурой лучшие художественные намерения, возможно признание фарфоровых изделий как уникального культурного наследия.
Так, в главе «Групповая фотография» Михайловская излагает сначала кредо руководителя производства Н. Я. Суетина, который ставил в один ряд итальянские примитивы, супрематические живописные композиции и раннесоветские фарфоровые изделия, в том числе ориенталистского стиля, связанные с советской политикой в Центральной Азии. Везде для него цвет преобладал над «воздухом», а конструкция как столкновение различных цветовых планов — над светом (с. 67). Михайловская замечает, что сам по себе метод Суетина был лишен противоречий, так как он позволял как угодно нюансировать изделие, убирая всё лишнее, добиваясь новой игры пропорций; в этом смысле он был столь же неуязвим, как детская фантазия.
Но ряд сотрудниц фарфорового производства не могли понять этой концепции, прежде всего, Н. Я. Данько, которая увлекалась театром и стремилась передать сценическую, а не функциональную фактурность (с. 60). Михайловская выстраивает генеалогию специфически театральной линии в фарфоровом производстве, от Данько до Инны Олевской, создания из фарфора композиций из множества персонажей. Фарфор может быть идеально пропорциональным, но он не может быть одновременно сюжетным, тогда как супрематизм требовал хотя бы производственного сюжета. Возникает то самое устрашающее противоречие в фантазии, которое может быть решено только новым вниманием к фактуре и созданием чего-то еще более фантазийного, при этом поддерживаемого риторикой материала. Только если в детской книге это будет живая речь кого-то из героев, показывающая, что именно произошло за это время, то здесь таким риторическим средством оказывается кобальт как живая стихия.
В классической риторике существовало представление о «влажном» или, лучше сказать, «сочном» слове, которое делает речь не просто более выразительной, но и более правдивой, соответствующей правильной «экономии» мироздания3. Мы можем вспомнить, что в «Пире» Платона Эрос «текуч» в речи Агафона, точно так же, как истинную речь в «Федре» Платона вдохновляют Нимфы, то есть влажные богини. Этой влажностью и текучестью и обладает кобальт.
Данько говорит, что ее привлекали природные формы, ей хотелось передать органическую жизнь цветов и плодов. Ведь при обжиге глина сжимается, и поэтому жест очищения глины позволяет почувствовать фактуру и сохранить ее, несмотря на эффекты обжига, сделать ее живой и свежей. То есть здесь как раз требуется еще большая фантазийность, сопоставляющая органические формы и подходящие им действия, дающая как бы взгляд из будущего. Данько и сравнивает создание пышных цветов и вообще крупных фантазийных форм как «символов природы» с тем, как «вы очистили мандарин» — почувствовали фактуру самими пальцами, некоторую шершавость и одновременно первозданность материи, в которой уже нет противоречия, которая дана как уже вовлеченная в действие.
При этом как раз цвет не должен быть рыжим, ржавая охра с ее сухостью и неприятной шершавостью будет противоречить мысли о цветущем мире. Поэтому и надо применить как бы сырой, водянистый кобальт, который и даст нужный эффект (с. 70–71). Так Михайловская объясняет возникновение и знаменитой ленинградской кобальтовой сетки, как части тиражных вещей, и уникальных кобальтовых цветов, представлявшихся на всемирных выставках, прежде всего, сервиза «Цветущий кобальт» В.М. Городецкого, где кустодиевская пышность соединилась с уникальной и невоспроизводимой утонченностью изделия, ставшим своеобразным пророчеством для всей ленинградской школы фарфора.
Такое движение к влажному кобальту было предопределено всем сюжетом книги, начиная с ключевой главы «Сюжет для производственного романа» о создании виноградовского фарфора в России XVIII века. Суть изложения такая: Мейсен мог использовать разные буржуазные цвета, в зависимости от спроса, но здесь художественность поддерживалось клеймом, которое защищало вещи от подделки и само было защищено от подделки, в частности, наносилось не тогда же, когда рисунок (с. 22–25). Тем самым, оно и создавало тот эффект достоверности, который позволял принять и цвет, и фактуру этих статуэток или этой посуды как принадлежащий порядку жизнеподобия — наподобие того, как мы, сев в театральное кресло, верим происходящему на сцене. Но в России производство было результатом заказа сверху и общей «фарфоровой болезни» всей Европы (с. 18), увлечения всех дворов фарфором, то есть способа специфически отмечать русский фарфор не было, кроме собственно выполнения заказов. Искусство слишком стремительно обезличивалось, и поэтому фарфор становился предметом изысканного обращения, но не изысканным как таковым.
Тот же самый мотив есть в фильме «Петровский портрет» (1972) по сценарию Михайловской, где эпоху представляет появление наград, медалей, которые можно повертеть на свету и посмотреть, как они блестят, но потом через несколько кадров показываются миниатюры как раз как доказательство обезличивания искусства. То есть медаль, штамп, клеймо оказы- вается лишь частью довольно страшной эпохи, которая показывает ужасающее: далее крупным планом в кадре показаны части уже больших портретов маслов, например, злые морщины или напряженные пальцы, доказывающие, что петровская эпоха не позволила художнику быть ритором, и всякая индивидуализация и брендирование самой манеры приводило к тому, что живопись представляла то, что надо бы скрывать. Это и был «производственный роман» послепетровской эпохи: в противоположность параду, мы видели изнанку производства как изнанку тогдашней придворной жизни.
Сходную картину петровского времени создал В.В. Бибихин в статье «Закон русской исто-рии»4: он как раз рассмотрел чистую фактуру и чистый цвет того времени, например, использование красного цвета в XVIII веке, и тем самым показал, как петровские и последующие реформы подчиняются темпу, темпераменту и в конце концов фантазии государя. Согласно Бибихину, пушкинская эпоха показала ограничения этих фантазий, например, недостаточность одного только темпа для признания твоей культуры во всем мире, для признания тебя победителем над Наполеоном, и создала уже особый мир, где фактура признается, например, фактура покоренных южных земель, но всякий раз оживляется тем самым гибким литературным словом.
Этому же посвящена и другая статья Бибихина, полемизирующая с А. Зориным, где он показывает, как фантазия Державина и Пушкина оказывается вовсе не частью официального театра, но способом сказать о границах этого театра наиболее гибким и непостижимым образом5. Бибихин как раз приводит пример «Бахчисарайского фонтана», который и стал согласно Михайловской и уточнениям современных исследова-телей6 главным поводам к внедрению кобальта в сложные композиции: Н.Я. Данько писала сцены из поэмы, упражняясь в живости компози- ционной передачи фактуры (с. 68), а веселый влажный кобальт потом и позволил создавать живость любых композций.
В книге Михайловской таким «Пушкиным» оказывается Инна Олевская, которую «Цветущий кобальт» Городецкого вдохновил вовсе не на создание цветов или каких-то еще вещей, а на создание театрального фарфора, разоблачающего прежние условности композиций и создающего нечто как раз непостижимое и пророческое (с. 188). Дело в том, что сам Городецкий, в изложении Михайловской, любил театр, и видел театральность в Рафаэле, который может представить Мадонну в современных одеждах как некоторое более чем присутствие, прямой выход в современность, приводящий в трепет, то, что в современной музыке делает Пендерецкий (с. 157). Иначе говоря, открывалось то самое ужасное, и Городецкий ведет себя так же, как Державин, по Бибихину, представляя политические замыслы Екатерины II как уже присутствующие, облеченные в современные одежды, и потому оставляющие место для пророчеств.
Городецкий благословляет Олевскую, именно как своеобразного пушкинского человека, призывая ее создавать «фарфоровый кабинет для поэтов» (с. 189). Это вполне соответствует тому, как Бибихин понимает Пушкина, способного исследовать экзотические фактуры, но при этом видеть, как именно обновленная фантазия, с помощью идеально влажного риторического слова, может указать на ограничения этих фактур и необходимость более мудрых политических замыслов. Именно Олевская, согласно Михайловской, добилась удивительно тонкой лепки цветов, так что они казались бумажными (с. 196), то есть создала непостижимое искусство, в котором любой, даже казалось бы незатейливый элемент, окажется не внутри прежней безличной фантазии, создающей повышенный страшный эффект сверхприсутствия, но внутри обновленной, доброжелательной фантазии — Олевская там же говорит, что ее тонкость работы не большая, чем тонкость всех скульптур и природных видов в Летнем Саду.
Прихотливая игра оживляющего света в ее изделиях (с. 195) оказывается больше, чем просто игрой, а той самой живой речью о произошедшем и могущем произойти, не случайно современные исследователи отмечают в ее работах «рембрандтовский» колорит вместе с углублени- ем в пушкинские темы7. Собственно пушкиниана Олевской, к которой следует отнести не только итоговую инсталляцию «Гений и злодейство» (1990–1999), но и более ранние работы, которые уже существовали на момент написания книги К. Н. Михайловской, такие как «Хильдегарда Бин-генская», вдохновленная трудами Аверинцева, требует отдельного исследования. Нашей задачей было показать, как различение первой фантазии, которая заканчивается катастрофой сверхприсутствия в противоречиях, и второй фантазии, которая позволяет пророчествовать и обозревать достоверно в том числе и эмпирически происходящее, проводится в художественных и документальных книгах Михайловской; и как оно позволяет описать достижения советской ленинградской школы фарфора как достижения, конгениальные пушкинской эпохе.
Список литературы Цветущий кобальт: к литературным стратегиям представления декоративно-прикладного искусства
- Бибихин В. В. Закон русской истории // Вопросы философии. 1998. № 7. С. 94-126.
- Бибихин В. В. Кормя Зевесова орла // Континент, 2022, № 2 (112). С. 272-283.
- Брагинская Н. В. Влажное слово: Византийский ритор об эротическом романе. М.: РГГУ, 2003. 214 с. EDN: QZNGCR
- Ишо Е. Р. Фарфоровые метаморфозы в творчестве Инны Олевской // Месмахеровские чтения - 2019 научно-исследовательские работы аспирантов и студентов: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 21-22 марта 2019 года. Санкт-Петербург: КультИнформ-Пресс, 2019. С. 163-169. EDN: BSGPUL
- Михайловская К.Н. Цветущий кобальт. М.: Советская Россия, 1980. 224 с.
- Сапанжа О.С., Баландина Н.А. Поэма А.С. Пушкина и балет Б.В. Асафьева "Бахчисарайский фонтан" в советской фарфоровой пластике // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. 2019. № 3. С. 119.
- Соболев А. Л. Летейская библиотека. Т. 1-2. М.: Трутень, 2013. 944 с.