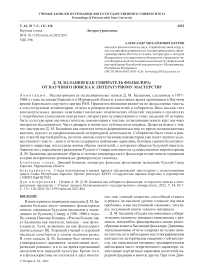Д. М. Балашов как собиратель фольклора: от научного поиска к литературному мастерству
Автор: Петров А.М.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: К 95-летию со дня рождения Д.М. Балашова
Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются экспедиционные записи Д. М. Балашова, сделанные в 19571960-х годах на севере Карелии и в Мурманской области, в настоящее время хранящиеся в Научном архиве Карельского научного центра РАН. Предметом внимания являются не фольклорные тексты, а сопутствующие комментарии, отчеты и ремарки исполнителей и собирателя. Весь массив этих вспомогательных данных охватывает несколько тематических областей: сведения о сказителях с подробными словесными портретами литературно-художественного типа; сведения об истории, быте, культуре края; научные гипотезы, комментарии к текстам, позволяющие понять круг научных интересов исследователя. Часть ремарок и мини-эссе публикуются впервые. Делается вывод о том, что мастерство Д. М. Балашова как писателя начало формироваться еще во время экспедиционных выездов, задолго до профессиональной литературной деятельности. Собирателю было тесно в рамках строгой научной работы, поэтому многие сопутствующие комментарии уже носят зачатки художественного текста - даже в отчетах содержатся пейзажные зарисовки, бытовые сценки беллетризованного характера, воссозданы живые образы сказителей, с которыми общался будущий писатель. Знакомство с народными традициями Русского Севера повлияло на художественное мировоззрение Д. М. Балашова, архаические образы и мотивы севернорусского фольклора позже нашли отражение в серии исторических романов на древнерусскую тематику.
Дмитрий балашов, литература, фольклор, фольклорная экспедиция, русский север, карелия, мурманская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147240096
IDR: 147240096 | УДК: 398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.824
Текст научной статьи Д. М. Балашов как собиратель фольклора: от научного поиска к литературному мастерству
В многогранном творческом наследии Д. М. Балашова большое место занимают фольклорные записи, сделанные будущим писателем в экспедициях по Русскому Северу в 1950–1960-е годы. По словам Николая Коняева, «Россия больше знает Балашова как писателя, меньше – как фольклориста. Хотя, возможно, он как фольклорист значительнее» [8]. Хороший ученый и хороший писатель сочетаются в одном человеке редко. В этом смысле Д. М. Балашов был личностью универсального дарования: талантливый исторический романист и в то же время признанный исследователь народной культуры. Кроме того, и в фольклористике он состоялся в двух ипоста- сях: как ученый-теоретик, способный ставить и решать на высоком уровне сложные научные проблемы, и как неутомимый «полевик», энтузиаст, подлинный знаток «своего» материала.
Д. М. Балашов обладал несомненным собирательским талантом: материал записывался с размахом, масштабно, фиксировались самые разнообразные аспекты бытования фольклора. Дневники, экспедиционные отчеты содержат не только записи текстов, но и наблюдения над этнографическим контекстом; исторические сведения о той местности, где записывался материал; предварительные наблюдения чисто теоретического характера; талантливые портретные зарисовки носителей народной традиции и многое другое. При этом Дми- трию Михайловичу во время первой экспедиции (летом 1957 года) не было и тридцати лет.
В Научном архиве КарНЦ РАН хранятся оригинальные рукописные коллекции (также машинописные копии) с фольклорными записями Д. М. Балашова, сделанными во время экспедиций на Русский Север (преимущественно север Карелии и Терский район Мурманской области) в 1957–1964 годах [9: 140–142, 145]. Подробная опись материалов и некоторые предварительные наблюдения уже были опубликованы ранее [9], [10], [11], [14]. Предметом рассмотрения в настоящей статье станут преимущественно не фольклорные тексты, а те пометки, ремарки и прочие сопутствующие записи (в том числе бытового характера), которые рассыпаны по полевым дневникам собирателя, а также отчеты об экспедициях. Они интересны тем, что проясняют многие вопросы бытования фольклора в то время, проливают свет на некоторые аспекты и трудности собирательской работы, наконец, дают представление о методах работы самого Д. М. Балашова как фольклориста. Некоторые из этих ремарок публикуются впервые, хотя основная их масса уже давно введена в научный оборот самим Д. М. Балашовым (см., например, [1], [3], [4]), а также Е. В. Марковской в ее серии публикаций к 85-летнему юбилею писателя.
Содержание архивных коллекций говорит о широком кругозоре Д. М. Балашова, о большом диапазоне его научных интересов. Ученый записывал если не всё, то почти всё: жанровый репертуар включает лирические песни, баллады, былины, духовные стихи, сказки, пословицы и поговорки, прибаутки, частушки, загадки, былички, предания, анекдоты, городские («жестокие») романсы, детский фольклор, любительские авторские сочинения носителей фольклорной традиции, песни-переделки, народные «версии» известных литературных произведений и т. д. Фиксировал собиратель и «потаенный», «низовой» срез неподцензурной народной культуры: в его записях иногда встречаются тексты эротического содержания, в том числе с обсцен-ной лексикой1. Полноценное изучение таких текстов возобновилось лишь в 1990-е годы [13].
Все эти материалы, даже осколки традиции, зафиксированы с высочайшим качеством, с должной тщательностью, научной добросовестностью. Д. М. Балашов был одним из первых, кто начал использовать магнитофон, поскольку прекрасно понимал значение подлинной речи, напевов, интонационных нюансов исполнения фольклорных произведений – всего того, что запись «от руки» передать не в состоянии. Сделанные им и другими участниками экспедиций аудиозаписи хранятся в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН, значи- тельная часть введена в научный оборот, другие еще ждут опубликования.
В 2012 году к 85-летию писателя и фольклориста был выпущен мультимедийный диск «Эпос и духовная лирика Усть-Цильмы в записях Д. М. Балашова» ( https://illh.ru/balashev ), снабженный солидным научным аппаратом. Здесь представлены варианты былин, духовных стихов, баллад, записанных в 1963–1964 годах, с расшифровками текстов, нотными приложениями, подробными комментариями, фотоальбомом и обширной вступительной статьей. Подобные комплексные издания ценны как для фольклористики, так и для этномузыкологии, лингвистики, стиховедения, краеведения и т. д.
ЗАМЕТКИ СОБИРАТЕЛЯ
Материалы рукописного архива КарНЦ РАН дают очень хорошее представление о Д. М. Балашове как исследователе фольклора. Заметки, сделанные им словно бы «на полях», на самом деле образуют своего рода метатекст, чрезвычайно важный для понимания не только отдельного произведения, но и в целом феномена народной культуры как таковой.
Уже во время первых экспедиционных выездов началось формирование взглядов Д. М. Балашова как ученого-фольклориста. Очевидно, что записи велись не стихийно: собирательская работа была поставлена на прочные научные рельсы, что, по-видимому, является немалой заслугой Ленинградской (Петербургской) филологической школы. В экспедиционных тетрадях можно обнаружить попутные замечания научного характера, которые говорят о том, что теоретическое освоение собранного материала происходило подчас в процессе фиксации текста. Удивляют точность и глубина понимания важнейших теоретических проблем фольклористики начинающим исследователем. С самого начала Д. М. Балашов неукоснительно следовал определенным принципам записи фольклора. Позже они были сформулированы в отдельной брошюре, вот, на наш взгляд, важнейшие: «записывать нужно все произведения народного словесно-музыкального искусства» [5: 18], при этом записывать «совершенно точно, не сглаживая диалектных особенностей речи и не стесняясь “грубых” выражений, а также кажущейся нескладности отдельных фраз» [5: 20]. Как уже было упомянуто, отдельным «героем» балашовских экспедиций был магнитофон, без которого собиратель не мыслил полноценной работы. Например, в отчете 1964 года по итогам экспедиции на Терский берег Белого моря техническим трудностям, связанным с магнитофоном, уделено немало внимания:
«Экспедиция проходила в очень тяжелых условиях – был получен мною неисправный магнитофон, поэтому на ходу пришлось перестраивать всю работу, менять маршруты <…> Из Оленицы бегал в Кашкаранцы встречать пароход, чтобы получить магнитофон»2.
Собиратель тщательно фиксировал любые ремарки исполнителя, которые, например, поясняют, откуда информант усвоил текст, ср. краткое предисловие к былине «Сухман», записанной в 1957 году от Пелагеи Степановны Югоровой, 62 г., в с. Шуерецкое: «Когда-то на веках у меня книга была, так пела и запомнила еще в ребяче-стве»3. Или пояснение Анны Васильевны Галаш-киной, 61 г., с. Шуерецкое, к духовному стиху «Егорий Храбрый»: «Кондратьевна меня научила. 12 годов мне было, я этот стих запомнила…»4.
Д. М. Балашов отмечал всё, что сопутствует основному тексту и раскрывает, каким-либо образом комментирует его:
«Исполнительница говорит, что этот стишок не пели, а говорили словами»5; «Это всё из жизни взято, так же люди жили, так же сватались, так же она бросалась на ножички»6 (комментарий Екатерины Михайловны Каллиевой, 71 г., с. Шуерецкое, к балладе «Домна»).
Интересны реплики исполнителей о современном бытовании фольклора на эстраде: «По радио многие старинные песни поют. Я говорю: “Ребята, смотрите, наши песни. Мно-о-го ста-ринных”»7 (Анастасия Петровна Логинова, 53 г., с. Шуерецкое).
Краткие ремарки, сделанные Д. М. Балашовым, со всей очевидностью обнаруживают потенциальный круг важных для него научных проблем: «Интересно – не литературного ли происхождения рассказ?»8, а также: «Забыл сейчас писателя»9. Эти комментарии были сделаны к фольклорной переделке рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы». В тетради Д. М. Балашова народная версия, близкая уже к легендарной сказке, озаглавлена «“Как с церкви крышу снял…” (ангел-сапожник)». Или (реплика исполнителя): «Где уж они эти сказки знали? В книжках вычитывали, верно. А нынче прибаутки эти и знаю только…»10.
Молодого ученого, очевидно, интересовала сложная проблема фольклоризма художественной литературы. Отсюда повышенное внимание к самодеятельным, дилетантским произведениям, сочиненным самими носителями фольклорной традиции. Подобные тексты (их не следует смешивать с «фейклором», то есть с искусственным фольклором, от англ. fake – «фальшивка», «подделка») привлекли специалистов сравнительно недавно, но Д. М. Балашов, в соответствии со своими принципами («переписываю всё подряд»11), зафиксировал и эти материалы. См., например, стихотворение Василия
Павловича Стрелкова, Терский р-н Мурманской обл., с. Чаваньга, зап. в 1961 году12:
Люблю кататься на оленях! По тундре – белому простору, Где нет препятствий никаких. Люблю кататься на оленях В саамских нартах расписных! Там голос северной Авроры Могу услышать на бегу, Когда оленьих ног копыто Звенит на искристом снегу.
А сполох – северное диво, Там играет в час ночной, И тройка шустрая несётся По тундре-матушке с тобой!
Любопытно также стихотворение в народном стиле, похожее на причитание13:
Ой ты берег родной – гавань Чаваньга!
Ой отец ты родной, Сил Данилович!
Ой ты маменька, Дарья Ниловна!
И пошто вы меня – чадо милое Апраксию замуж выдали
За не нашего, за не милого,
Не на свой бережок, а за морюшко, Ой за морюшко, ой за Белое!? и т. д.
Стихотворение довольно объемное, в конце дается пояснение: «Посвящено беломорской сказительницы [е] Аграфене Матвеевне Крюковой (1855–1921). Зимний берег. Составил дальний родственник, уроженец Терского берега Стрелков В. П., г. Минск. 20 декабря 1959 года»14.
Однако помимо фольклорных текстов и ремарок к ним Д. М. Балашова интересовали и сами сказители. Собирателю было не все равно, что за человек перед ним, как и чем он жил, что чувствовал. Экспедиционные записи содержат ряд ярких словесных портретов. Эти портреты создаются двумя способами: автобиографические сведения (прямая речь исполнителя, взгляд изнутри) и свободное описание собирателем, часто в художественно-публицистической манере (своего рода внешнее наблюдение). Собиратель не ограничивается сухими «паспортными данными», которые принято указывать для каждого фольклорного варианта. Как верно отметила Е. В . Марковская,
«в его описания во время работы со сказителями входил большой объем дополнительной информации, который дает несопоставимо более полное представление о человеке» [11: 229]. «Полевые записи Д. М. Балашова отличает большое внимание, уважение и профессиональный интерес к личности исполнителя» [10: 130].
Информантам предоставляется простор и свобода повествования. Например, в экспедиции 1957 года в с. Шуерецкое Кемского района Д. М. Балашов записал автобиографические сведения Александры Павловны Куроптевой, 65 л. Собиратель отметил, что Александра Павлов- на родом из Мурманской области (что важно для лучшего понимания возможных связей между локальными фольклорными традициями), и привел ее полный рассказ о себе. Рассказ совсем небольшой и уместился в 16 строчках, однако в нем отразились многие, преимущественно драматические, страницы истории отдельной семьи и «большой истории». Рассказчица из бедной семьи, рано («на 11 году») лишилась отца, который «потонул в Архангельске». Еще ребенком работала на заводе по 12 часов, «а после 5-го году, после забастовки, 10 часов. Маленьки, силы-то ведь нету, тяжело приходилось». Трагедией стала война: «Сын один убит на фронте. Другой служит 10 годов уж». Женщина сожалеет, что, имея способности, не смогла, в силу исторических обстоятельств, как следует выучиться: «Я в 1907 г. сельску школу кончила. Нам, беднякам, трудно было <…> У меня способности были учиться, если бы как сейчас, то две грамоты у меня остались похвальны. Только чистописание мне не далось». Как это часто бывает, прежняя жизнь, пора юности, вспоминается с ностальгией:
«Сейчас молодежь обленилась, только на танцах их много. Мы-то застрельщиками были. Тут встреча была трех поколений, ну я немножко критикнула молодежь, рассказала, как мы работали. А теперь – поля все затравеют, а на прополку нет никого, а на танцах много. Теперь только стали маленько работать»15.
Так Д. М. Балашов пытался уловить ускользающее эхо прошлого, по крупицам собирал воспоминания еще живых свидетелей и участников трагических событий первой половины XX века: на долю того поколения, с которым общался собиратель, выпало немало тягот и невзгод. Такие пометки полезны не только для фольклористов, но и для историков: они представляют хороший материал для изучения, например, проблемы исторической памяти по устным рассказам очевидцев.
Необходимо обратить внимание на ту лингвистическую щепетильность, с которой записывались автобиографические сведения: собиратель зафиксировал многие черты идиолекта рассказчицы (лексики, морфологии, синтаксиса); передал особенности спонтанной устной речи со всеми ее огрехами. Поэтому такие мини-тексты могут быть полезны и лингвистам, в том числе диалектологам.
В 1961 году Д. М. Балашов был в экспедиции в Мурманской области (Терский район). Помимо ценных фольклорных материалов он привез и замечательные словесные портреты исполнителей. Также собиратель создал интересные бытовые зарисовки: привел некоторые занимательные отрывки из разговоров жителей, дал описания их взаимоотношений и т. п. Например, с боль- шой теплотой он рассказал о Евдокии Дмитриевне Коневой, 63 г., из села Варзуга:
«В Варзуге Конева несомненно – лучший знаток фольклора <…> У Е. Д. очень тонкая наблюдательность и драматический талант: рассказывая о прошлом, она иногда изображает то или иное событие, всегда мастерски. На людях, однако, она стесняется, рассказывать сказку в присутствии студента ей уже было трудно <…> У Е. Д. очень развито чувство юмора. Это сказывается на ее сказочном репертуаре, но также то и дело проявляется в разговорах, замечаниях, наблюдениях. Так, в 1957 г. она сидела у окна, рассказывая, а я записывал. Вдруг перед домом появился мальчик с удочкой, комически серьезный в огромных отцовских сапогах – он шел на рыбалку. Е. Д. не могла удержаться и выглянула в окно: “Эй, больше рыбы лови! В сапоги наклади!” и добавила, повернувшись ко мне: “Каки больши сапоги!”»16.
Также собиратель представил подробный портрет Марины Поликарповны Дьячковой, 62 г., с. Варзуга:
«М. П. очень любознательная женщина, ходит в кино, слушает передачи радио, в Мурманске, где она была несколько лет назад, М. П. старалась всё посмотреть, всюду побывать и попросту разглядывала городских жителей <…> В 1957 г., записывая от нее частушки, я записал и такую, [про] которую М. П. сказала мне с некоторым смущением: “Эту я сочинила, сама…”:
Мы на севере живем, Хлеб у нас не родится, А родная партия О нас заботится.
Нынче она вновь вспомнила ее и рассказала следующее: “Тут приезжали из Мурманска двое, ну и пристали как смола – сочини да сочини что-нибудь про современную жизнь, уж я отвязаться не могла и эту частушку сложила”. Факт, как мне кажется, любопытный для любителей разнообразных “новин”… Ряд сказок М. П. непосредственно “литературного” происхождения (из прочитанных книг)»17.
Здесь, еще задолго до обращения российских фольклористов к проблеме «фейклора», Д. М. Балашов предпринимает первые осторожные наблюдения над истоками и сутью этого явления.
Имеется в экспедиционной тетради и портрет жителя с. Варзуга Сергея Дорофеевича За-борщикова, 54 г.:
«Слепой сказочник и знаток песен. Ослеп в результате ранения на фронте. Лежал в госпитале, в Иркутске, написал домой… Многие жены отказывались от слепых мужей, он так же боялся, как его встретят? Жена написала: “Приезжай, какой есть, хоть костьё одно осталось”. Жена и мать, ухаживавшая за ним в послевоенные годы (теперь умерла), помогли С. Д. вновь [в]стать на ноги душевно. Он работал, научился читать по алфавиту для слепых и выписывает журнал. Его сказки слушают сельчане, и это также помогает ему жить…»18.
Позже Д. М. Балашов переработал, дополнил и опубликовал эти и другие художественные портреты сказителей Варзуги во вступительной статье к сборнику сказок Терского берега [4].
Тонкость, деликатность передачи портрета исполнителя присущи и очерку, написанному Д. М. Балашовым после двух поездок на Печору, предпринятых в 1963–1964 годах [2]. Исследователь воссоздал подробные образы Гаврилы Васильевича Вокуева, Василия Игнатьевича Лагеева, Еремея Прововича Чупрова и Леонтия Тимофеевича Чупрова.
Отдельные, зачастую случайные, реплики помогают полнее представить картину жизни и быта людей. Например, Александра Ивановна Лёвина, 75 л., из с. Шуерецкое Кемского района не только исполнила песню «Шкатулка», но и поделилась сведениями «о делах колхозных и рыбацких», об этнографических реалиях, о каликах: «Как калики пойдут петь стихи, так я убегала, не любила стихов. Калики эти, прости Господи, не нравились мне»; о колхозе: «Стары остарели, а молодые туда-сюда, не идут в колхоз. Есть могутны, да не идут»19 и т. д. Валерия Ивановна Курицына, 61 г., также из с. Шуерецкое, прерывала чтение стихотворений (по-видимому, самодеятельных: «говорил мне папаша: сами слóжили») поясняющими комментариями:
«На Белом море по рекам – семга ловилась, после, как канал провели, ей и повредило. Теперь разводят в Выге-реке и Сороке. Так селедку в Белом, а здесь – навагу и камбалу»20.
Оба примера – из экспедиции 1957 года, когда Д. М. Балашов был еще аспирантом Пушкинского Дома. Чрезвычайно интересен подробный отчет об этой экспедиции21, позднее частично опубликованный [1]. Этот отчет не является простым реестром, каталогом записанного материала. Он содержит описания местности и природы, сведения об истории края, о жителях и их хозяйственных занятиях, носителях фольклора, жанровом составе и современном состоянии фольклорной традиции; имеются острые замечания по поводу снабжения экспедиции и т. д.
В опубликованную краткую, суховатую и более формальную версию отчета [1] не вошли многие любопытные детали, тем интереснее смотрится этот текст в архивном деле. Так, Д. М. Балашов сетует на отсутствие звукозаписывающей аппаратуры:
«К величайшему сожалению, Сектор22 не смог снабдить меня магнитофоном никакой конструкции, что весьма нерасчетливо. Если у нас мало денег, тем более нужно посылать людей с магнитофонами. Это будет ровно вдвое дешевле, чем снаряжать потом отдельную экспедицию за напевами. Экспедиция К. В.23 тоже не была снабжена магнитофоном. Я буквально вырвал в филиале24 любительский магнитофон “Эльфа-6” и две кассеты с пленкой, которые и исписал целиком в первом пункте моей работы – в Шуерецкой. Так что вместо трехсот-четырехсот музыкальных записей, которые я мог бы сделать при наличии хорошего прибора и пленки, я сделал 59 – столько, сколько уместилось на моих двух кассетах, и то в одном месте, на Карельском берегу. Сверх того – пусть те, кто знаком с этим Эльфом, скажут, что это за система. Не говоря о конструкции, весом он приближается к той сумочке переметной, в которой была заключена тяга земная. А не взять его совсем я не мог по соображениям нау чной честности. Когда я поступил в аспирантуру, у меня произошел памятный для меня разговор с Флавием Васильевичем25, который сказал мне: “На словах-то вы все за то, чтобы изучать и собирать песни с напевами, а вот на деле…”. Ну и я не хотел, чтобы у меня расходились слова и дела»26.
Д. М. Балашов подошел к составлению отчета, что называется, «с душой», он снабдил его живописными картинами северной природы:
«Белое море изумительно красиво. (Возможно, мне повезло – нынче там было необыкновенно жаркое лето). Фиолетовые граниты, обшитые ледником, сползают в воду, на них щетина соснового леса. Голубые горы вдали. Удивительно нежные и тонкие тона и необыкновенные белые ночи с цветным непотухающим небом»27.
Здесь увлеченный делом ученый-фольклорист выступает уже практически в качестве писателя-пейзажиста, настолько красочно его мини-эссе. Интересно сравнить это описание Белого моря с тем, которое позднее, в 1972 году, уже будучи профессиональным литератором, Д. М. Балашов опубликует в предисловии к сказкам Терского берега, обработанным для детей:
«Белое море приходит и уходит. Отступая, оставляет на песке мелкие розовые ракушки и покрупнее – бороздчатые, с пестрым рисунком. Иногда – винно-красных медуз. Умирая, медузы теряют цвет, бледнеют, становятся прозрачными, как студень, и медленно высыхают на песке <…> Коротко северное лето. Вот уже грозно ревет море, ветер срывает с волн сердитые гребни. Короче стали дни, темнее ночи. Падает снег. Белое море становится черным. Чуть проглянет обмороженное красное солнце, прокатится по самому краю воды, и опять долгие ночи темны…» [6: 3].
Особо он отметил влияние произведений классической литературы и, в целом, текстов массовой культуры на фольклорную традицию края:
«Явно сказывается тяготение к обогащению репертуара произведениями профессионального искусства. Поют Пушкина, Лермонтова. Беда в том, что между народным искусством и классикой стояла и стоит – я знаю провинциальных гастролеров-эстрадников достаточно хорошо, чтобы говорить об этом, – мутная волна невообразимой мещанской пошлости, которая усваивается в деревне под маркой городской культуры. Когда я ехал на пароходе в Кижи и обратно, репродуктор безостановочно обливал меня столь низкопробными “штучками”, что я за эти несколько часов приобрел неврастению и самые мрачные мысли о будущем нашей советской песенной культуры»28.
С восхищением Д. М. Балашов писал о материальной культуре и нравственных качествах жителей северного края. В его дневниковых записях словно конкурируют беспристрастный исследо- ватель, фиксирующий «экспедиционный материал», и обычный человек, который даже в формальном научном отчете не может не поделиться своими личными впечатлениями об увиденном и услышанном:
«В одежде – старинных сарафанов и повойников держатся старухи, они очень красивы и величественны в этих сарафанах. Молодежь и женщины средних лет все носят современные костюмы; жители культурны, много ездят, много видели, живут зажиточно и очень чисто, в поморские избы приятно заходить. Такая же чистота и на тонях. Народ замечательно приветливый, гостеприимный, честность там поразительная. Пробыв на Белом море меньше двух месяцев, я возвращался оттуда, как будто бы уезжал из родных мест»29.
Из экспедиции в Терский район Мурманской области 1962 года Д. М. Балашов привез, помимо ценнейшего фольклорного материала, и записи историко-бытового характера, например (рассказ Евдокии Анисимовны Мошниковой, 68 л., с. Умба):
«Бесёду собирали по 25 копеек за избу, да и то деньгами не давали, муки или крупы наберешь чашку, старухи и довольны. Раньше и не пили так, не стаканами пили, а рюмочками маленькима. Соберутся – по пять суток гуляли, а пьяного не видать. И не дрались, вот только мудьюжана те приходили драться, любую беседу разобьют. А то и не дрались, тихо жили по деревням, спокойно…»30.
Бытовой, автобиографический рассказ может незаметно переходить в фольклорный нарратив: таков, например, рассказ о вещем сне Анны Архиповны Кузнецовой, 64 г., из с. Пялица[ы]:
«Сон приснился – меня понесло ветром и принесло в военный город. Много-много военных ходит, и старичок седатый, и повел меня. А стоит дом маленький, как моя избушка, и оттуда ревут, слышу. А что там, говорю, ревут? Захожу туда, а там озеро и плавают, только головы видать, и Далматушко мой там. Мама, говорит, не плачь, много плачешь, так мне тяжело, не выбраться из озера. Потом я его достала, и очутился он в шубе белой. И пошли. И идём, а вдруг глянула – и он исчез, как и нет, а дорога идет к морю, к горю, значит. И потом узнала, что убит»31.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы привели лишь крупицы из нескольких объемистых томов архивных коллекций Д. М. Балашова. Материалы, которые сам собиратель считал наиболее важными, уже введены в научный оборот, в частности сказки, свадебные песни, баллады, былины, духовные стихи. Однако многое в экспедиционном наследии Д. М. Балашова еще требует пристального внимания фольклори- стов. Как мы постарались показать, к числу таких материалов относятся записи, сопровождающие фольклорный текст, пояснения, словесные портреты исполнителей, отчеты и т. п. Они позволяют не только лучше понять контекст бытования фольклорного произведения (что достаточно очевидно), но и, как нам кажется, обнаружить истоки будущего писательского мастерства.
Отметим важную вещь: едва ли Д. М. Балашов сознательно подбирал «фактуру» для будущих произведений. Экспедиции носили строго научный характер, а сам он в то время еще не помышлял о будущей судьбе. Однако обстоятельства сложились так, что научными находками он не ограничился. Уже в первых поездках ученый-фольклорист, очевидно, пропитался духом старины, нашел яркие, необычные для представителя городской культурной среды интонации русской народной речи. Впоследствии это, может быть и поневоле, подтолкнуло его к созданию целого мира Древней Руси, в котором он нашел свое предназначение, свой жизненный смысл. Экспедиционные заметки исподволь формировали Д. М. Балашова как писателя: на Русском Севере он нашел и живые образы, и живой язык, и историю, и богатую традиционную культуру. В этом убеждают талантливо выполненные художественно-литературные портреты сказителей, пейзажные зарисовки, бытовые сценки и т. д. При чтении полевых дневников возникает ощущение, что это и не дневники вовсе, а черновики будущих сочинений, проба пера, уже здесь заметен литературный дар, видно бережное отношение к русскому слову. От научного отчета не требуется насыщенных эпитетами и метафорами описаний Белого моря или портрета сельского мальчишки, «комически-серьезного в огромных отцовских сапогах». Однако у Д. М. Балашова все это есть. Вероятно, создание мини-очерков имело для фольклориста такое же значение, как для начинающего музыканта исполнение этюдов, необходимое для освоения инструмента. В литературном творчестве писателя весь опыт собирания и изучения фольклора нашел самое непосредственное воплощение, причем исследователи отмечают
«умение растворить фольклорные традиции в литературе, познать дух народного творчества, его эстетику и этику, протянуть “звенья памяти” от народного эпоса в сегодняшний день, к нравственным исканиям современного человека» [7: 236].
Экспедиции на Русский Север помогли Д. М. Балашову обрести свое призвание.
Список литературы Д. М. Балашов как собиратель фольклора: от научного поиска к литературному мастерству
- Балашов Д. М. Новые записи фольклора на побережьях Белого моря // Русский фольклор. Т. IV. Материалы и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 418-421.
- Балашов Д. М. Печора и ее сказители // Север. 1965. № 3. С. 73-84.
- Балашов Д. М. Предисловие // Балашов Д. М., Красовская Ю. Е. Русские свадебные песни Терско -го берега Белого моря. Л.: Музыка, 1969. С. 3-9.
- Балашов Д. М. Сказочники и сказочная традиция на Терском берегу // Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л.: Наука, 1970. С. 7-31.
- Балашов Д. М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного народного творчества). М.: Знание, 1971. 39 с.
- Балашов Д. М. Как сказки попали в книжку // Сказки Терского берега / Запись, литературная обработка сказок Д. М. Балашова. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1972. С. 3-6.
- Дюжев Ю. И. Д. М. Балашов (1927-2000) // История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2000. С. 233-245.
- Коржов Д. Кольчуга памяти и любви // Мурманский вестник. 17.11.2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mvestnik.ru/culture/pid2007Ш72373l/ (дата обращения 25.05.2022).
- Марковская Е. В . Описание фольклорных коллекций Научного архива КарНЦ РАН // Полевые исследования и архивация фольклорных и этнографических материалов: Материалы V научно-практического семинара. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2012. С. 127-274.
- Марковская Е. В. Д. М. Балашов и Карелия: «Фольклорный период» в жизни писателя // Традиционная культура. 2012. № 4. С. 129-139.
- Марковская Е. В. Сказители Русского Севера 1960-х годов в исследованиях Д. М. Балашова // Человек в истории: героическое и обыденное. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 226-231.
- Марченко Ю. И. Флавий Васильевич Соколов - собиратель напевов Печорского былинного эпоса // Рябининские чтения - 2019: Материалы VIII конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 424-426.
- Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки / Сост. и науч. ред. А. Л. Топоркова. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995. 640 с.
- Шибанова Н . Л. Опись рукописных коллекций фольклорных материалов, собранных Д. М. Балашовым, хранящихся в архиве Карельского научного центра РАН // Русский фольклор. Т. XXXII. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2008. С. 425-475.