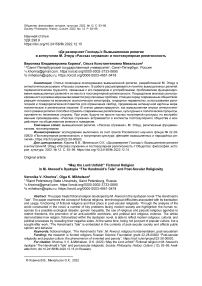"Да разверзнет Господь!". Вымышленная религия в антиутопии М. Этвуд "Рассказ служанки" и постсекулярная религиозность
Автор: Хорина В.В., Михельсон О.К.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию вымышленной религии, разработанной М. Этвуд в антиутопическом романе «Рассказ служанки». В работе рассматриваются понятие вымышленных религий, терминологические трудности, связанные с его переводом и употреблением, проблематика функционирования вымышленных религий и их место в постсекулярной религиозности. Посредством анализа сконструированного в романе мира высвечивается ряд ключевых проблем, стоящих перед современным обществом: реакция человека на возможную экологическую катастрофу, гендерное неравенство, использование религиозной и псевдорелигиозной повестки для ограничения свобод, продвижение антинаучной картины мира, политическое и религиозное насилие. В статье демонстрируется, как вымышленная внутри антиутопического романа религия способна отражать современные религиозные, культурные и политические процессы, проявляя их негативные стороны. При этом, будучи не просто частью популярной культуры, но востребованным произведением, «Рассказ служанки» встраивается в контексты постсекулярного общества и воздействует на общественное мнение и поведение.
Вымышленная религия, рассказ служанки, м. этвуд, религиозный фундаментализм, постсекуляризм
Короткий адрес: https://sciup.org/149142046
IDR: 149142046 | УДК: 298.9 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.15
Текст научной статьи "Да разверзнет Господь!". Вымышленная религия в антиутопии М. Этвуд "Рассказ служанки" и постсекулярная религиозность
1,2Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia , ,
Романы-антиутопии, получившие особое развитие в начале XX в., стали ответом на утопические идеи прошлого, пусть даже совсем недавнего. В период, когда научно-технический прогресс стал чрезвычайно интенсивным, возможность преобразования мира и общества казалась реальной. Однако социально-политические процессы к середине XX в. не только не давали надежд на создание совершенного общественного устройства, но и, более того, вызывали серьезные опасения в отношении возможного утопического будущего. Революция в России, возникновение тоталитарных режимов, две мировые войны, сопровождаемые острыми экономическими кризисами – все это инициировало волну художественных произведений, ставших классикой современной антиутопии. В центре их внимания оказалась личность, заключенная в клетку тотального контроля, в условиях принудительного лишения индивидуальности, свободы выбора, слова и даже мыслей. Подавление сознания, манипуляции с ним, жесткая регламентация жизни, подчиняющая личность во имя служения общей идее становятся теми инструментами антиутопического мира, которые оказываются способны поставить под угрозу понятие объективной истины и заменить настоящие ценности их суррогатами. Темы, которые постепенно начали проявляться в антиутопических произведениях второй половины XX – начала XXI в., также отражали общественный страх грядущего: угроза ядер-ной войны, компьютеризация и механизация, экологические катастрофы, спровоцированные перенаселением и перепроизводством, загрязнением планеты и глобальным потеплением. В связи с этим в оптике внимания литераторов оказываются гендерная проблематика, вопросы выживания, осознанного потребления и биоэтики (Fitting, 2010: 143–147).
Постановка религиозной проблематики внутри жанра антиутопии во многом стала следствием как обозначенных тем, так и секуляризации, развития науки, медицины, женской эмансипации и последовавшей за этим реакции религиозных фундаменталистских течений. В этом контексте появляются антиутопии, в которых герой противостоит общественному устройству, жестко регламентированному главенствующей религией. Зачастую религиозные системы в подобных произведениях в основе имеют реальные религии, возведенные в радикальную степень или представленные в гротескной иронической форме. Таким образом минимизируется связь с реальным прототипом и появляется «вымышленная религия» (fictional religion), существующая в рамках художественного произведения и являющаяся результатом авторского вымысла. Целью данного исследования выступает анализ вымышленной религии.
Другое направление, в котором используется религиозная тематика, – милленаристские или пост-апокалиптические антиутопии, где человечество становится жертвой катастрофы, активированной нынешним мировым порядком. Религия и возрождение особой новой духовности в этих сюжетах является единственным способом для людей объединиться и выжить. Развиваясь уже в контексте постсекулярности, данное направление антиутопических произведений предлагает кардинально новую вымышленную альтернативу существующим религиозным системам – «изобретенную религию» (invented religion), пытаясь избежать их ошибок и крайностей. Это стремление к созданию новой религии, способной спасти человечество от гибели, максимально сближает антиутопический и утопический жанры.
Методологически данное исследование опирается на концепцию изобретенных религий К. Кьюcак (Cusack, 2010) и вымышленных (фикциональных) религий М.А. Дэвидсена (Davidsen, 2013). Термин invented religion был введен К. Кьюсак в ее программной одноименной работе (Cusack, 2010), в которой она рассматривает изобретенные религии, анализируя генезис и развитие подобных явлений в современных обществе и культуре. Основываясь на концепции П. Буайе, считавшего, что «человеческое сознание нарративно, или литературно» (2017: 276) и в центре любой религии находится нарратив, поскольку именно через повествование сообщества передают культуру, К. Кьюсак подчеркивает принципиальную значимость историй для человечества, что и лежит в основании феномена изобретенных религий (Cusack, 2010: 21). Исследовательница полагает, что первой изобретенной религией современности стало викканство – новая религия, ассоциируемая с почитанием природы и ведовством. К изобретенным религиям К. Кьюсак также относит дискордианизм, Церковь всех миров, пастафарианство, джедаизм и матрик-сизм (Cusack, 2010: 24).
Представляется, что концепция К. Кьюсак содержит ряд противоречий. Так, одним термином обозначаются как уже устоявшееся новое религиозное движение викканство, так и движения, возникшие на основе художественных источников, будь то литературные или кинематографические произведения. Викка, безусловно, восходит к учению и сочинениям Дж. Гарднера, в этом смысле ее можно рассматривать как сконструированную или изобретенную религию, однако сам Дж. Гарднер вполне в духе других религиозных деятелей не приписывал себе заслугу изобретения викки, а напротив, подчеркивал, что это древняя дохристианская традиция (Hutton, 2001: 205–240). Движения, возникшие на основе художественных произведений, будь то Церковь всех миров, в основе которой лежит роман Р. Хайлайна «Чужак в чужой стране», джедаизм или матриксизм, возникшие из киноэпопей «Звездные войны» и «Матрица», действительно, изначально были плодом творческого вымысла создателей. Однако далее эти изобретенные религии развивались независимо от своих «изобретателей», которые, заметим, вовсе не обязательно стремились изобрести какие-либо новые религии, функционирующие за пределами произведений. Тем не менее пастафариан-ство и другие подобные учения, часто именуемые пародийными религиями за свойственное им сатирическое изображение религиозных догм (Quillen, 2017: 206), действительно изначально были именно изобретены. Однако они имеют специфический характер, поскольку в первую очередь создавались для того, чтобы инициировать общественный разговор о религии в современном обществе и привилегиях традиционных религиозных институтов (Laycock, 2013: 24).
В связи с этим в контексте данного исследования предпочтительным представляется использовать термин М.А. Дэвидсена «вымышленная», или «фикциональная» (fiction-based), религия (Davidsen, 2013). М.А. Дэвидсен трактует вымышленные религии как основанный на художественной литературе подтип посттрадиционной религии. Последняя свойственна современному постсекулярному миру. Между тем стоит обратить внимание на сложности в поиске убедительных альтернатив при переносе терминов fictional (вымышленная) и invented (изобретенная) в русский язык, поскольку при переводе они становятся почти синонимичными. Однако при рассмотрении вымышленных и изобретенных религий в качестве функциональных сюжетных единиц в рамках художественных произведений термины представляются хоть и близкими, но четко дифференцированными: англоязычное fiction-based означает, что нечто основывается на художественном произведении, предположительно литературном, но далее может выйти за его пределы и функционировать самостоятельно (как, скажем, джедаизм). Между тем англоязычное fictional не подразумевает развитие литературных религий в реальном мире. В данной статье под вымышленной религией понимается религиозная система, существующая и функционирующая сугубо в рамках художественного произведения, пусть и имеющая в основе реальные прототипы. В более поздних работах и сама К. Кьюсак начинает активнее использовать понятие вымышленных религий (Cusack, Robertson, 2019). Помимо методологии К. Кьюсак и М.А. Дэвидсена, в исследовании также применялись текстологический метод, позволивший раскрыть внутреннее содержание и логику источника, а также герменевтический метод, подразумевающий социокультурный контекстуальный анализ, необходимый для понимания контекста источника.
Роман канадской писательницы М. Этвуд «Рассказ служанки»1, изданный в 1985 г., был высоко оценен критиками и вызвал широкую общественную дискуссию. Экранизация в виде сериала, начавшего выходить с 2017 г., спровоцировала новую волну читательского интереса, что побудило автора написать продолжение антиутопии под названием «Заветы». Действие романа М. Этвуд происходит в республике Галаад, якобы образованной на территории США в результате насильственного захвата власти религиозно-политической группировкой под названием «Сыны Иакова». В мире условного будущего одной из главных проблем человечества становится вызванное радиоактивным фоном и другими экологическими катаклизмами резкое снижение женской и мужской фертильности и, соответственно, рождаемости. Поэтому актуальной целью «сынов Иакова» выступает переустройство мира с помощью тотального контроля над населением, в первую очередь над женщинами. Причины всех постигших человечество бедствий они видят вовсе не в экологических факторах, а, вполне в духе общественных и религиозных движений древности и Средневековья, в развращенности общества и культуры, распущенности и независимости женщин, ставших сосудами зла, а поэтому лишенных Богом способности к продолжению жизни.
В результате возникает милитаризированное государство Галаад, вся жизнь в котором жестко регламентирована религиозными нормами, инспирированными новым прочтением Ветхого и Нового Завета. Социум этого государства поделен на страты, функционирующие в соответствии с четким гендерным разделением и социально-экономической иерархией. Верхушкой иерархии становятся командоры – политический истеблишмент Галаада, те самые «сыны Иакова», их наследники и преемники. Они занимаются внешней и внутренней политикой, являются самым привилегированным классом. Их жены и дочери также пользуются привилегиями, обладая относительной свободой во взаимодействии с другими членами общества, однако не имеют права на работу или какую-либо общественно-политическую активность, посвящая себя лишь необременяющим занятиям вроде вязания или садоводства.
В большинстве своем «жены», как их называют, бесплодны, поэтому в обществе появляется отдельный класс женщин – «служанки». Будучи способными к зачатию и рождению детей, они используются семьями командоров в качестве суррогатных матерей. Их жизнь определена лишь репродуктивной функцией, любая другая деятельность для них остается под запретом.
Служанки обезличены и объективированны – их лишают реальных имен, заменяя на притяжательные прилагательные, ассоциируемые с именем командора, в семье которого они находятся. Так, например, главная героиня, от лица которой ведется повествование, носит имя «Фредова», т. е. буквально принадлежащая командору Фреду.
Среди женщин особым расположением государства пользуются «тетки» – они проводят идеологическую индоктринацию служанок и полностью контролируют их жизнь. Из всех галаадских женщин только у теток остался доступ к знанию – чтению и письму, которые запрещены остальным. Являясь одним из столпов, поддерживающих идеологическую целостность государства, они обладают судебной властью и правом на участие в общественной жизни, в том числе на проповедничество и управление миссионерской деятельностью, осуществляемой Жемчужными Девами за пределами Галаада. Как уже упоминалось, всем женщинам Галаада, кроме теток, запрещено читать и писать, иметь работу, кроме домашней, и распоряжаться финансами, нарушение этих запретов влечет за собой телесные наказания или, в случае рецидива, смертную казнь.
Какое же место занимает религия в антиутопическом мире романа? Уже из краткого описания социальной структуры Галаада становится очевидно, что специфически интерпретированный и извращенный библейский дискурс распространяется на все сферы жизни тоталитарного государства. Внедрение его происходит уже на уровне топонимики – название республики отождествляет ее с ветхозаветным Галаадом и символизирует возвращение к библейским традициям. Номинация социальных групп также связана с образами Священного Писания – командоры праведников, ангелы и хранители, очи Господни – все эти названия постулируют близость мужчин к Богу, а значит, легитимируют их власть. Названия женских групп, напротив, обозначают их подчиненное положение. Так, общее наименование персонала, обслуживающего элиту по хозяйству, – «марфы» – отсылает к евангельскому сюжету, в котором из двух сестер, принимавших в своем доме Христа, именно Марфа заботилась об устройстве гостя и большом угощении (Лк. 10: 38–42). Институт суррогатного материнства обоснован в системе этого вымышленного государства ветхозаветной историей Рахиль, которая, не имея возможности дать Иакову детей, прибегла к помощи «плодоносной» служанки. Внешний вид женщин кодифицируется в соответствии с библейской цветовой символикой: так, жены командоров облачены в голубые одежды, связанные с образом святости и Девой Марией, а служанки – в красные, одновременно указывающие как на жертвенность, так и на греховность1.
Библия для Галаада не священный текст, а орудие пропаганды – специальная трактовка избранных библейских сюжетов становится инструментом внедрения в сознание общества устойчивых образов и стереотипов, воспитания инвариантного шаблонного восприятия политических и социальных явлений. Библейские цитаты, вырванные из контекста, а зачастую и вовсе дописанные и искаженные, превращаются в политические лозунги и элементы повседневной коммуникации, формируя собственную ограниченную семиотическую систему. Это подкрепляется запретом не только на самостоятельное, но и на публичное чтение Библии: отрывки, соответствующие политической программе Галаада, воспроизводятся лидерами в составе официальных речей или в назидательных беседах, но верифицировать сказанное невозможно, а значит, общество антиутопического мира романа вынуждено верить и подчиняться.
Любой конкурентоспособный идеологический авторитет в Галааде преследуется по закону, поэтому церкви уничтожают, а представителей любой религии, не отрекшихся от веры, казнят, вывешивая их тела на стене для публичного обозрения. Репрессиям подвержены абсолютно все слои населения Галаада: любое инакомыслие, неблагонадежное поведение, не говоря уже о нарушении общественных норм и «преступлениях против государства», выявляются шпионами тайной полиции и почти всегда заканчиваются смертной казнью. Помимо отсутствия церквей, религиозная жизнь Галаада практически лишена обрядов и таинств. На замену им пришли политические суррогаты, направленные на воспитание покорности и создание иллюзии сопричастности государственным, понимаемым как божественным, деяниям. Среди них можно отметить «молитвонады» – общественные собрания по случаю свадеб или военных побед, сопровождаемые проповедью командора и распеванием гимнов; мужские и женские «избавления», или публичные казни, имеющие устрашающий и назидательный характер; церемонии зачатия и рождения ребенка, строго регламентированные сюжетом о Рахили, в некоторых деталях воспроизводящие его буквально. Процесс личного обращения к Богу механизирован: в специальных магазинах под названием «Свитки духа» можно заказать пять видов молитв, после чего эти унифицированные тексты прокручиваются специальным прибором необходимое количество раз. Из текста романа следует, что почти тайно практикуются и индивидуальные молитвы, наедине с собой. Зачастую люди, не знакомые с Писанием, используют запомнившиеся с детства религиозные песенки, стихи и гимны.
По всей видимости, в официальной религиозной пропаганде этого вымышленного сообщества отсутствуют любые намеки на эсхатологические представления и идеи о спасении, как нет упоминаний о существовании ада или рая. Существует только Галаад, служение которому и есть награда и спасение. Один из главных вопросов, которым задается героиня романа: «Неужели они сами верят, что это все – благо?», и оказывается, что не верит почти никто. Командоры имеют доступ к черному рынку, наркотикам и изменяют женам, принуждая служанок к сексуальным связям. Дети, которых рожают для семей элиты служанки, зачастую оказываются никому не нужны. Фертильность – это еще один ценный ресурс, который должен принадлежать государству, а полная семья используется лишь для репрезентации общественных норм. Так, в Галааде не придают значения демографическим показателям и казнят людей больше, чем их рождается. Религия в этом мире становится лишь обложкой режима и применяется как ее главный артефакт, легитимирующий насилие, репрессии и преступления против свободы личности: «Бог – достояние нации», гласит один из лозунгов Галаада.
Во многих рецензиях и аннотациях к роману можно прочесть, что М. Этвуд описывает мир, победу в котором одержал христианский фундаментализм1. Однако это не совсем верно. Автор действительно взяла за основу идеи христианских (главным образом протестантских) движений, распространенных в Америке, – вымышленная религия романа «Рассказ служанки» имеет некоторые черты англо-американского пуританства XVII в. Однако М. Этвуд, с одной стороны, довела их взгляды и положения до крайности, а с другой – соединила их с радикальными проявлениями иных религиозных (в том числе иудейских и мусульманских) и политических движений. В тексте прослеживаются аналогии и с нацистской организацией Лебенсборн, историей американского рабства и идеологией коммунизма радикального толка. Поскольку это литературное произведение, очевидно, что описываемый мир М. Этвуд обогатила и собственными идеями, еще больше гипертрофируя идеологическую систему Галаада, чтобы максимально высветить волнующую ее проблематику сексуального насилия и гендерного неравенства. Таким образом, «Рассказ служанки» не является зеркалом современного протестантского фундаментализма, как заявляла и сама писательница в ответ на обвинения в антихристианском характере романа, – это критика использования любой религии в качестве прикрытия тирании2.
Вышедший в 1985 г. «Рассказ служанки» стал откликом на окружающую действительность: в Иране только что произошла исламская революция, в том числе лишившая женщин многих гражданских прав, в США при президентстве республиканца Р. Рейгана христианские фундаменталисты получили большее влияние, вступив в борьбу со многими свободами, включая право на аборт. Неслучайно главная героиня романа сообщает, что ее мать в прежние времена была «активной феминисткой», в то время как жена командора, в чью семью она попала, была известной «телеевангелисткой»: именно во время написания романа фундаменталисты в США имели эфирное время на телеканалах и набирали все большую популярность (Frankl, 1998: 512), получая общественную поддержку, действовали фундаменталистские протестантские террористические группировки, например «Армия Бога» (Altum, 2003: 2).
Ключевая проблема, которую актуализирует роман «Рассказ служанки», – религиозное насилие. Как пишет М. Юргенсмейер, характеризуя данный феномен: «религиозное насилие проявляется в общественной жизни повсюду и в каждой духовной традиции. Нет религий, склонных к насилию больше других: ислам по природе своей не насильственнее того же христианства. И точно так же нет религии, которая была бы абсолютно ненасильственной и свободной от прецедентов кровавого активизма – он присутствует даже в буддийских обществах» (2021: 12). Дискурс о насилии и религии был исследован в работах Ж. Батая, считавшего, что жизнь как тотальность существования является миром чистого насилия, насилия самого по себе, а его специфические формы (жертвоприношение, война, эротизм) позволяют принять смерть и вернуться в потерянный рай утраченной целостности. Ж. Батай делит насилие на трансцендентное, свойственное профанному и обращенное на других, и имманентное, свойственное сакральному и обращенное на себя самого. Трансцендентное насилие рационально и производится из соображений целесообразности, но оно при этом только отделяет людей от жизни, поскольку усиливает их овеществление. В то время как имманентное насилие, насилие жертвоприношения, трактуемое Ж. Батаем в первую очередь как принесение в жертву Богом себя самого, возвращает человеку ощущение целостности и родства со всем сущим, растворяя его в тотальном насилии самой жизни, обусловленном смертью (Батай, 2006; Зыгмонт, 2018).
Исходя из концепции Ж. Батая очевидно, что насилие мира «Рассказа служанки» – трансцендентное насилие, поэтому в религиозном и онтологическом планах оно бесполезно и существует только для установления контроля над личностью и обществом. Как точно заметил французский философ, следствием трансцендентного насилия является овеществление человека, именно это и происходит со служанками в мире романа, они становятся имуществом семьи командора, что отражает даже временно данное каждой из них имя. Подобное насилие на самом деле светское, оно не имеет внутренней сакральной сути, в отличие от сакрального насилия не прерывает «дискретность единичного существа», позволив, благодаря сакральному жертвоприношению, вернуть непрерывность бытия (Батай, 2006: 547). Таким образом и религия, сконструированная М. Этвуд, выступает не столько как сакральное, сколько как тоталитарная система.
Подводя итог, стоит отметить, что М. Этвуд, используя в качестве главного сюжетного условия вымышленную религию, основанную на реальных прототипах, смогла сформировать впечатляющую картину возможного будущего. И М. Этвуд, и авторы одноименного сериала, созданного по мотивам ее антиутопии, смогли облачить актуальные для современного мира проблемы в столь яркую и провокативную форму, что закономерно вызвали широкий общественный резонанс. Экологические проблемы, вопросы гражданских свобод в обществе, гендерное и иное неравенство, антинаучные взгляды, насилие, в том числе религиозное и политическое, – все это нашло отражение на страницах романа, но в следствие его популярности повестка «Рассказа служанки» вышла далеко за пределы литературы и кинематографа. Созданный в антиутопии образ служанки стал одним из символов женского протеста: женщины, одетые в красные накидки и белые чепцы, выходят на улицы по всему миру, чтобы отстаивать свои права, в том числе в сфере религии (Carrola, 2021: 90).
Таким образом, мы можем видеть, как вымышленная внутри антиутопического романа религия способна не только отражать современные религиозные, культурные и политические процессы, но и пытаться их трансформировать. Роман, будучи явлением популярной культуры, встраивается в контексты постсекулярного общества и конструирует общественное поведение и индивидуальную идентичность, в том числе в области религиозных явлений.
Список литературы "Да разверзнет Господь!". Вымышленная религия в антиутопии М. Этвуд "Рассказ служанки" и постсекулярная религиозность
- Fitting P. Utopia, dystopia and science fiction // The Cambridge companion to utopian literature / ed. by G. Claeys. Cambridge, 2010. P. 135-153.
- Cusack C.M. Invented religions: Faith, fiction, imagination. Surrey, Burlington, 2010. 179 p.
- Davidsen M.A. Fiction-based religion: Conceptualising a new category against history-based religion and fandom // Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal. 2013. Vol. 14, no. 4. P. 378-395. https://doi.org/10.1080/14755610.2013.838798.
- Буайе П. Объясняя религию: природа религиозного мышления: монография. М., 2017. 496 с.
- Hutton R. The triumph of the Moon: A history of modern pagan witchcraft. Oxford, 2001. 512 p.
- Quillen E.G. The satirical sacred: New atheism, parody religion, and the argument from fictionalization // New atheism: Critical perspectives and contemporary debates / ed. by C.R. Cotter, P.A. Quadrio, J. Tuckett. Cham, 2017. P. 193-220. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54964-4_11.
- Laycock J. Laughing matters: "Parody Religions" and the command to compare // Bulletin for the Study of Religion. 2013. Vol. 42, no. 3. P. 19-26. https://doi.org/10.1558/bsor.v42i3.19.
- Cusack C.M., Robertson V.L.D. Introduction: The study of fandom and religion // The sacred in fantastic fandom: Essays on the intersection of religion and pop culture / ed. by C.M. Cusack, J.W. Morehead, V.L.D. Robertson. Jefferson, North Carolina, 2019. P. 1-14.
- Frankl R. Televangelism // Encyclopedia of religion and society / ed. by W.H. Swatos Jr. Walnut Creek, 1998. P. 512-518.
- Altum J.C. Anti-abortion extremism: The Army of God // Chrestomathy: Annual Review of Undergraduate Research at the College of Charleston. 2003. Vol. 2. P. 1-12.
- Юргенсмейер М. «Ужас Мой пошлю пред тобою». Религиозное насилие в глобальном масштабе. М., 2021. 496 c.
- Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М., 2006. 742 с.
- Зыгмонт А. Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая. М., 2018. 320 с.
- Carrola M.Y. Activists in red capes: Women's use of the Handmaid's Tale to fight for reproductive justice // The Journal for Undergraduate Ethnography. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 89-107. https://doi.org/10.15273/jue.v11i1.10869.