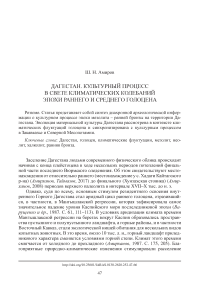Дагестан. Культурный процесс в свете климатических колебаний эпохи раннего и среднего голоцена
Автор: Амиров Ш.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Эпохи камня и бронзы
Статья в выпуске: 252, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой синтез диахронной археологической информации о культурном процессе эпохи мезолита - ранней бронзы на территории Дагестана. Эволюция материальной культуры Дагестана рассмотрена в контексте климатических флуктуаций голоцена и синхронизирована с культурным процессом в Закавказье и Северной Месопотамии.
Дагестан, голоцен, климатические флуктуации, мезолит, неолит, халколит, ранняя бронза
Короткий адрес: https://sciup.org/143166138
IDR: 143166138
Текст научной статьи Дагестан. Культурный процесс в свете климатических колебаний эпохи раннего и среднего голоцена
Однако, судя по всему, основным стимулом резидентного освоения внутреннего Горного Дагестана стал аридный цикл раннего голоцена, отразившийся, в частности, в Мангышлакской регрессии, которая зафиксировала самое значительное падение уровня Каспийского моря послеледниковой эпохи (Ва-рущенко и др., 1987. С. 61, 111-113). В условиях аридизации климата времени Мангышлакской регрессии на берегах вокруг Каспия образовались пространства пустынного и полупустынного ландшафта, а горные районы, и в частности Восточный Кавказ, стали экологической нишей обитания для нескольких видов копытных животных. В это время, около 10 тыс. л. н., горный ландшафт прилед-никового характера сменяется условиями горной степи. Климат этого времени смягчается от холодного до прохладного (Амирханов, 1987. С. 175, 205). Благоприятные природно-климатические изменения стимулировали расселение http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.47-66
в горной зоне носителей Чохской мезолитической культуры, которые были специализированными охотниками на безоаровых козлов, муфлонообразных баранов и собирателями растительной пищи, включая дикие злаки. При сравнении с соответствующими материалами Северного и Южного Прикаспия выявляется сходство между мезолитическим инвентарем Чохского поселения и соответствующими комплексами Туркмено-Хорасанских гор и гор Эльбурса Южного Прикаспия (типа Хоту и Гар-и-Камарбанд) значительно большее, чем с другими памятниками как Левантийского, так и Кавказского региона ( Амирханов , 1987. С. 193, 206). Этот факт указывает на вектор первоначального заселения внутреннего Дагестана людьми современного физического типа в послеледниковый период.
На хронологию культурных трансформаций Евразии, связанных с глобальными изменениями климата послеледниковой эпохи раннего голоцена, значительную роль оказывал фактор запаздывания этих изменений в умеренном поясе Северного полушария по сравнению с субтропическим поясом. В Левантийском регионе Передней Азии после короткого периода похолодания, известного как поздний дриас, в начале голоцена происходит поступательное становление производящей экономики, растянувшееся более чем на 2 тыс. лет – от первых опытов культивации зерновых в течение периода PPNA и доместикации мелких копытных животных в течение периода PPNB и до производства керамических сосудов. В Дагестане, который находится в южной зоне умеренного континентального климата, близкие климатические кондиции (сопоставимые с субтропическим поясом) сложились только к началу т. н. атлантического времени, на рубеже VII–VI тыс. до н. э. В это время аридные и прохладные условия климата на Восточном Кавказе меняются на теплые и влажные, а Каспийское море переживает очередной цикл расширения водного зеркала, известный как Новокаспийская трансгрессия атлантического времени. На первую половину VI тыс. до н. э. приходится первая фаза этого подъема уровня Каспийского моря, известная как «Дагестанская трансгрессия», когда уровень моря был на 6–11 м выше современного ( Варущенко и др. , 1987. С. 111–113). В горном регионе происходит смещение ландшафтных зон. На платообразных горах Центрального Дагестана с высотными отметками 1600–1900 м над ур. м., занятых прежде горно-степной растительностью, появляются участки широколиственных лесов (дуб, граб, ясень) ( Амирханов , 1987. С. 175).
Мезолитическая культура Горного Дагестана, непрерывно существовавшая на протяжении более двух тысяч лет, в атлантический период переживает качественную трансформацию. С начала VI тыс. до н. э. здесь появляется целый комплекс признаков, свидетельствующих о коренном переломе в хозяйственной деятельности и образе жизни. В неолитическом слое Чохского поселения впервые для Дагестана фиксируются оседлый образ жизни и признаки сложения производящего хозяйства (Там же. С. 123, 138, 143–157). При этом следует отметить, что на Чохском поселении, несмотря на выявленные существенные изменения хозяйственного уклада, в неолитическом комплексе явно прослеживаются мезолитические черты, и прежде всего это касается культуроопределяющих типов кремневого материала (Там же. С. 118).
Чрезвычайно важно обнаружение в неолитическом слое Чохского поселения сосудов из обожженной глины ( Амирханов , 1987. С. 127–132), поскольку наличие керамических сосудов, даже несмотря на их очевидную простоту, скорее свидетельствует о развитом этапе «неолитической революции», чем о его нача-ле1. Также, говоря о керамике из Чохского поселения, следует отметить ее очевидное сходство с керамикой Шомутепе-Шулаверской культуры с точки зрения морфологии, технологии и декора. Но при этом она выглядит типологически более ранней, чем керамика из большинства неолитических поселений Восточного Закавказья. Долгое время керамика из неолитического слоя Чохского поселения считалась наиболее ранней на Кавказе. Этот факт был важным аргументом в пользу независимости происхождения керамического производства на территории Внутреннего Дагестана. Однако со времени выделения в предгорьях Малого Кавказа, в районе среднего течения Куры, на поселении Хаджи Элам-ханлы Тепе ( Nishiaki et al. , 2015) наиболее раннего периода керамического неолита Шомутепе-Шулаверской культуры, который датируется перв. пол. VI тыс. до н. э., ситуация с возникновением керамического производства на Восточном Кавказе выглядит иначе. И наличие в неолитическом слое Чохского поселения сосудов, подобных ранней керамике с предгорий Малого Кавказа, более логично объяснять теперь как импорт из Закавказья.
При такой интерпретации слой с Чохского поселения представляет только относительно ранний этап неолита Горного Дагестана, синхронный раннему периоду Шомутепе-Шулаверской культуры (нач. – перв. пол. VI тыс. до н. э.).
В степной зоне «Плодородного полумесяца» Северной Месопотамии чох-ской неолитической культуре Горного Дагестана была синхронна хассунская культура, которую ближе к середине VI тыс. до н. э. сменила халафская культура, существовавшая в условиях несколько более аридного климата, чем исключительно гумидный климат предшествующего времени ( Амиров , 2010. C. 29–32; 2014. C. 9, 10). В Восточном Закавказье, включая степной подгорный пояс Малого Кавказа, в это время распространена Шомутепе-Шулаверская культура. На ряде ее памятников позднего этапа, например нахичеванский Кюль-Тепе, Араташен ( Мунчаев , 1975. С. 97; 1982. C. 117; Palumbi , 2007. P. 67, 72. Pl. 2: 1–3 ), фиксируются импорты халафской керамики.
В перв. четв. V тыс. до н. э. в степной зоне Северной Месопотамии происходит постепенное замещение халафской неолитической культуры североубейд-ской культурой эпохи раннего халколита (см.: Амиров , 1994; Amirov, Deopeak , 1997). Этот процесс проходит на фоне усугубления аридизации климата ( Амиров , 2010. C. 30, 31, 57, 58). С аридным циклом V тыс. до н. э., отмеченным на обширных пространствах Северного полушария, коррелирует т. н. Жиландин-ская регрессия Каспийского моря ( Варущенко и др. , 1987. C. 112, 113. Рис. 20; Амиров , 2014. C. 6–10). В это время в степной зоне Восточного Закавказья отмеченный аридизационный цикл выразился в завершении в перв. пол. V тыс. до н. э. существования земледельческо-скотоводческой Шомутепе-Шулаверской
-
1 Как известно, на памятниках Переднеазиатского очага неолитизации и его дериватов наличие керамической посуды характерно для завершающего этапа «неолитической революции».
культуры, а также ее трансформации в культуру подвижных скотоводов – Сиони (и на развитом этапе – Сиони-Цопи). Исходной территорией распространения этой культуры была, прежде всего, восточная часть Малого Кавказа ( Небиери-дзе , 2010). Однако следы проникновения этой культуры отмечены далеко за пределами ее материнской территории: от Северного Кавказа до Восточной Анатолии и Северного Ирана ( Мунчаев , 1982. C. 120; Хельвинг , 2009. C. 64, 65; Kroll , 1990; Гиджрати, Ростунов , 1993).
Что касается Дагестана, то в настоящее время ни на плоскости, ни в горной части мы пока не имеем археологических данных для этого отрезка времени.
С начала и на протяжении всего IV тыс. до н. э. отмечен очередной цикл гу-мидизации климата. Это второй пик максимального увлажнения атлантического времени. С этим гумидным периодом коррелирует Гоусанская трансгрессия Каспийского моря ( Варущенко и др., 1987. С. 112, 113, 207). В Месопотамии культурное развитие этого времени отмечено возникновением городского образа жизни и древнейшей государственности. Эти процессы сопровождались беспрецедентным демографическим ростом и миграцией населения за пределы Месопотамии. С конца перв. трети IV тыс. до н. э. отмечено проникновение месопотамской материальной культуры в Закавказье. В степном ландшафте Восточного Закавказья появляются десятки поселений т. н. лейлатепинской культуры, наиболее характерной чертой которой является использование круговой керамики с растительными добавками в тесте. В то же время в предгорьях и горной зоне Малого Кавказа продолжает существовать автохтонная культура Сиони, керамика которой встречается на многих лейлатепинских поселениях, таких как Ментеш тепе, Пойлу II, Беюк Кисик, Лейлатепе, Галаери и др. ( Lyonnet et al. , 2012. P. 97–108; Мусеибли , 2007; 2010; 2014; Нариманов и др ., 2007). А на поселениях культуры Сиони с этапа Сиони-Цопи отмечена лейлатепинская круговая керамика ( Небиеридзе , 2007; 2010; Небиеридзе, Цквитинидзе , 2011). Ближе к середине IV тыс. до н. э. в условиях гумиди-зации климата на Малом Кавказе на исконной территории культуры Сиони происходит ее трансформация и начинает складываться куро-аракская культура. На раннем этапе она занимает территорию культуры Сиони-Цопи и охватывает Малый Кавказ и сопредельные горные области. Во втор. пол. IV тыс. до н. э. куро-аракская культура распространяется вширь, и к началу III тыс. до н. э. она уже известна от Северного Кавказа до гор Тавра и Северного Загроса (см., напр.: Амиров, Немировский , 2014).
Территория Восточного Кавказа к северу от Большого Кавказского хребта начиная с середины IV тыс. до н. э. находилась под сильным культурным влиянием Закавказья. Гумидные климатические условия этого периода приводят к тому, что территории Северного Азербайджана и Дагестана на Прикаспийской равнине были впервые освоены оседлым населением – носителями куро-аракской культуры. Телли этого времени фиксируются от Хачмасско-Кубинской зоны, через район нижнего течения русла Самура до Махачкалы ( Мусаев , 2009; Гаджиев , 1991. C. 129–140; Гаджиев, Магомедов , 2008; Kohl, Magomedov , 2014. C. 94–96. Fig. 1).
Для периодизации куро-аракской культуры на территории Северо-Восточного Закавказья и в Дагестане надежные хронологические реперы дает вариа- бельность массового керамического материала, которая позволяет устойчиво выделить три этапа.
Для массовой керамики раннего этапа (втор. пол. IV тыс. до н. э.) типичным является наличие чернолощеной, как правило, недекорированной посуды. При этом может быть отмечено долгое использование пережиточных элементов, присущих керамике культуры Сиони-Цопи (в частности, характерных жаровен, отпечатков рогожи на дне сосудов, налепного и прорезного декора), зафиксированное, например, на поселениях Геме-Тюбе I–II, Карасу-Тепе (Великент 2), Гинчи ( Гаджиев , 1991. C. 131. Рис. 12; 22; 28; и др.). Еще одним важным признаком, датирующим ранний период освоения Дагестанской плоскости носителями куро-аракской культуры, является присутствие в керамических коллекциях круговой керамики и подражаний ей. Например, керамика, изготовленная на гончарном круге, составляла в нижних слоях Карасу-Тепе (Великент 2) до 10%, и ее использование было прослежено вплоть до финального этапа жизни этого поселения ( Kohl, Magomedov , 2014. P. 103–106). Находки круговой керамики, помимо Карасу-Тепе, были отмечены на ряде других поселений, таких как Ка-баз-Кутан I–II, Новый Гапцах, Сюгут, Мамай-Кутан, а также в нижнем слое поселения Торпах Кала (Ibid. P. 102, 103).
Для керамики среднего этапа (перв. пол. III тыс. до н. э.) характерно доминирование лощеной посуды, иногда сложных форм, часто декорированной гравированным орнаментом. К началу этого периода традиция изготовления круговой керамики угасает, а в конце – появляются первые опыты использования новой – т. н. барботинной – техники обработки поверхности сосудов толстым слоем жидкой глины. Преимущественно этим периодом могут быть датированы поселение Торпах Кала ( Гаджиев, Магомедов , 2008; Kohl, Magomedov , 2014. P. 102–105. Fig. 7), нижняя часть слоя Земовар-Тепе (Великент 1) – на плоскости, а в предгорно-горной зоне: Мекегинское, Галгалатли, Анди, Ашали, Таргу и могильник Щебоха ( Гаджиев , 1991. C. 140; Kohl, Magomedov , 2014. P. 100–102). Частично этим временем, судя по всему, может быть датировано и Чиркейское поселение.
Для керамики позднего этапа (втор. пол. III тыс. до н. э.) отмечено уже широкое использование «барботинной» техники и наличие рельефной декорации, популярным мотивом которой были концентрические окружности и спирали. На плоскости такая керамика характерна, например, для поселений Земовар-Тепе (Великент 1), Геме-Тюбе I; в предгорной и горной зоне – для Сигитминско-го, Чиркатинского, Ингердахского, Местерухского поселений и могильника Гоно ( Kohl, Magomedov , 2014. P. 103–106; Гаджиев , 1991. C. 130–132, 145). Важным датирующим элементом этого периода является также появление закавказских керамических импортов, т. н. беденских сосудов ( Магомедов , 1999).
Таким образом, во втор. пол. IV – нач. III тыс. до н. э. Прикаспийская равнина в Дагестане была активно освоена носителями куро-аракской культуры ( Kohl, Magomedov , 2014. P. 102, 103; Гаджиев , 1991. C. 140). Хозяйственный уклад этих поселений имеет ярко выраженную земледельческо-скотоводческую направленность ( Kohl, Magomedov , 2014. P. 108). Более того, для этих памятников характерно экстраординарное количество металлических предметов и свидетельств местного металлопроизводства ( Гаджиев, Кореневский , 1984; Kohl,
Magomedov , 2014. P. 106). Архитектура раннего этапа представлена преимущественно землянками округлого плана (Геме-Тюбе I, Карасу-Тепе). В то же время на поселении Карасу-Тепе было исследовано круглоплановое сооружение, стены которого были сложены из стандартизированного сырцового кирпича (см. напр.: Гаджиев , 1991. C. 163–168; Kohl, Magomedov , 2014. P. 99, 100). Погребальный обряд носителей куро-аракской культуры на Прикаспийской равнине представлен коллективными ингумациями в овальной формы камерах катакомб, доступ в которые осуществлялся через дромос. Погребения, как правило, сопровождал многочисленный заупокойный инвентарь (см., напр.: Гаджиев , 1991. C. 170; Kohl, Magomedov , 2014. P. 109–110).
На территории внутреннего Дагестана в настоящее время известно пять памятников эпохи позднего халколита. Это поселения Гинчи и Чинна, а также сезонные стоянки Малинкарат, Мучубахилбакли, Архинда ( Гаджиев , 1991. C. 34). Халколитический слой поселения Гинчи характеризует ярко выраженный земледельческо-скотоводческо-охотничий характер хозяйства ( Золотов , 1968. C. 161; Гаджиев , 1991. C. 91). Жилые сооружения представлены наземными фрагментами каменных стен двух конструкций диаметром до 4 м и полуземлянкой диаметром 2,5 м. Керамическая коллекция поселения Гинчи – это набор сосудов, подобных керамике Сиони, лейлатепинской и ранней куро-аракской ( Гаджиев , 1991. Рис. 14: 10–21 ). В керамической коллекции Гинчи есть также небольшое количество расписной керамики (Там же. Рис. 14: 1–8 ). Качественная керамика Гинчи (8–15 % общего количества сосудов) производит впечатление подражаний лейлатепинским образцам.
Следует отметить, что такое сочетание разнокультурных и отчасти разновременных влияний во Внутреннем Дагестане было возможно только на отрезке в пределах втор. пол. (третьей четв.) IV тыс. до н. э.
Наступление аридного цикла III тыс. до н. э. наглядно прослежено в Северной Месопотамии. Типичными для иллюстрации этого процесса являются поселения Джезиры южного пояса «Плодородного полумесяца». Например, на поселении Телль Хазна I в конце XXIX – начале XXVIII в. до н. э. отмечен кратковременный перерыв в обитании, после которого здесь появляется новое население – носители северомесопотамской культуры «Ниневия 5» (см., напр.: Мунчаев, Амиров , 2016. C. 88–91; Amirov , 2014. P. 324). А с начала XXVII в. до н. э. в южном поясе «Плодородного полумесяца» фиксируется регулярное падение урожайности в результате наступления долговременного аридного цикла, охватившего большую часть северомесопотамской степи ( Амиров , 2010. C. 29–32; 2014. C. 12–13; Amirov , 2014. C. 324).
В Кавказском регионе аридный цикл III тыс. до н. э. коррелирует с Избербашской регрессией Каспийского моря ( Варущенко и др., 1987. C. 112, 113; Амиров , 2014. C. 7, 8). Здесь к началу III тыс. до н. э. прекращаются культурные импульсы, идущие из Северной Месопотамии в Закавказье, и завершает свое существование лейлатепинская культура. Наиболее поздние ее памятники c культурой месопотамского облика (типа Бериклдееби) перемещаются вдоль русла Куры в предгорную зону. На это же время приходятся и первые контакты лейлатепинского населения с мигрантами, носителями курганной культуры, широко распространившейся с начала III тыс. до н. э. в Восточном Закавказье:
от побережья Каспийского моря до долин рек Аракса и Куры ( Makharadze , 2007. P. 123–126; Мунчаев, Амиров , 2012. C. 45; Ахундов , 1999; 2001; Museibli , 2014). На некоторых памятниках степной зоны (типа Союг Булаг) отмечен синкретизм элементов лейлатепинской и ранней курганной культур ( Лионне и др. , 2011; Museibli , 2014. P. 126–128, 136–138. Fig. 4–6; 14–16).
Аридный цикл III тыс. до н. э. также провоцирует активные перемещения и миграции носителей куро-аракской культуры. В это время характерная чернолощеная куро-аракская керамика распространяется на обширной площади от Северо-Восточного Кавказа до Загросских и Левантийских гор ( Амиров, Немировский , 2014). В степном подгорном ландшафте Восточного Закавказья для исследования судеб куро-аракской культурной общности на ее развитом этапе (в III тыс. до н. э.) показательна последовательность слоев эпохи ранней бронзы (фаза 1 и 2) на поселении Ментеш Тепе, которые свидетельствуют, что после лейлатепинской культуры, в начале III тыс. до н. э., занимаемая ею территория на подгорной равнине Малого Кавказа оказалась освоенной носителями куро-аракской культуры ( Lyonnet , 2014). Однако, судя по материальным остаткам, их пребывание здесь носило скорее сезонный характер, возможно связанный с отгонным скотоводством.
В Дагестане в перв. пол. III тыс. до н. э. разнородные куро-аракские памятники известны практически во всех ландшафтных зонах – от плоскости (Вели-кент, Каякент, Торпах Кала и др.) и низких и высоких предгорий (Чиркей, Таргу, Янгикент, Мекеги, Карлабко и др.) до горной части Дагестана на высотах около 1000–1500 м над ур. м. (поселения Кули, Верхний Гуниб, Галгалатли, Ругуд-жа, Чирката, Чинна, Анди, Ашали и др., могильник Щебоха) ( Гаджиев , 1991. C.140), включая местонахождения на склонах Большого Кавказского хребта, в зоне альпийских лугов на высоте более 2000 м над ур. м. (поселения Эххо Чу-хари в Цумадинском р-не; Мокок и Кидилишани в Цунтинском р-не Дагестана) ( Kohl, Magomedov , 2014. P. 94, 95).
Широкое освоение внутренних районов Дагестана позволяет предполагать, помимо культурных влияний, наличие в это время также миграции групп населения с плоскости в сторону гор. С другой стороны, в перв. пол. III тыс. до н. э. на дагестанской территории Прикаспийской низменности, подобно восточному Степному Закавказью, появляется целый ряд местонахождений, связанных с культурой номадов, тяготеющих к позднемайкопскому и постмайкопскому кругу древностей. Здесь следует отметить памятники, выделенные Р. Г. Магомедовым в качестве единой культурно-хронологической группы. Это Большой Миатлинский курган, Мискин-булакское культовое место, т. н. Великентские оградки, курган Торпак-Кала ( Магомедов , 1991). Эти курганы и местонахождения, вероятнее всего, могут быть датированы примерно втор. четв. – серединой III тыс. до н. э.
Во втор. пол. III тыс. до н. э. в степи Северной Месопотамии прогрессирующая аридизация климата привела к активизации миграционных процессов в сторону северной, наиболее увлажненной зоны «Плодородного полумесяца» и к становлению к середине – втор. пол. III тыс. до н. э. ранней государственности (см., напр.: Lebeau, Suleiman , 2005; Амиров , 2010. C. 60–62). Несколько позднее в степном ландшафте восточной части Джезиры распространяется
Аккадская имперская государственная модель. Однако в ходе усугубления ари-дизации климата в последней трети III тыс. до н. э., известного как «аккадский климатический коллапс», происходит разрушение самого Аккадского государства ( Weiss et al ., 1993; Staubwasser, Weiss , 2006. P. 382; Ristvet, Weiss , 2005. P. 9). А в предгорно-горном поясе – от Северного Кавказа и до Среднего Загроса и Северной Палестины – на фоне максимума аридного цикла конца III тыс. до н. э. прекращает существование куро-аракская общность ( Амиров, Немировский , 2014).
В Закавказье во втор. пол. III тыс. до н. э. отмечено, с одной стороны, широкое расселение носителей курганного обряда2, а с другой – одновременное запустение ряда позднекуро-аракских поселений ( Rova , 2014. P. 64). Для погребальных и бытовых памятников Картли этого периода предложено выделять два этапа: ранний (Марткопи) и поздний (Бедени) ( Гобеджишвили , 1980; Дедаб-ришвили , 1979; Джарапридзе и др. , 1986; Джапаридзе , 1996; Джалабадзе , 1998; Махарадзе , 1996; Махарадзе , Орджоникидзе , 2007; Rova , 2014. P. 64, 65).
Усиливающийся аридный цикл втор. пол. III тыс. до н. э. зафиксирован и в подгорной полосе вдоль среднего течения Куры. Здесь на поселении Мен-теш-Тепе куро-аракскую культуру (фаза 2) сменяет более мобильная курганная финала ранней бронзы (фаза 3) ( Lyonnet , 2014).
В Дагестане на Прикаспийской равнине во втор. пол. III тыс. до н. э. отмечены следы депопуляции автохтонного оседлого населения. Однако отдельные локусы поздней фазы куро-аракской культуры доживают здесь до последней четв. III – начала II тыс. до н. э. Типичные для этого времени керамические сосуды с обмазанной поверхностью и рельефным орнаментом характерны для таких поселений, как Земовар-Тепе (Великент 1), Мамай-Кутан, Геме-Тюбе I, Джеми-кент ( Гаджиев , 1991. C. 135); фиксировались они также и на ряде поселений, исследованных разведками. Тем не менее в это время на Дагестанской плоскости отмечены признаки этнической смены населения. Прикаспийская равнина в это время активно осваивается номадами, носителями курганного погребального обряда. Об этом свидетельствуют подкурганные погребения с беденской керамикой ( Магомедов , 1999; Гугуев и др. , 2010. Рис. 6) и древнейшие погребальные комплексы присулакских курганов ( Гаджиев , 1991. C. 135).
В то же время во втор. пол. III тыс. до н. э. количество местонахождений куро-аракской культуры в предгорьях и Внутреннем Дагестане значительно превосходит количество поздних куро-аракских поселений на равнине. В предгорной и горной зоне традиция изготовления барботинной керамики зафиксирована, в частности, на поселениях Чиркей, Чирката, Сигитма, Ингердах, Местерух, Карлабко, Кучраб и в могильнике Гоно (Там же. C. 145–148).
Для архитектуры памятников заключительного этапа эпохи ранней бронзы, как на плоскости, так и в предгорно-горной зоне, во втор. пол. III тыс. до н. э. отмечено изменение строительных стереотипов (будь то землянки, сырцовая архитектура или сооружения из камня). Прослежен переход от круглоплановых к подпрямоугольным, иногда многокомнатным домостроениям. На прикаспий-
-
2 В настоящее время только на территории Восточной Грузии раскопано более 130 курганных погребений втор. пол. III тыс. до н. э. ( Махарадз е, в печати).
ских поселениях подпрямоугольные сооружения были выявлены в верхних слоях Геме-Тюбе I, Земовар-Тепе и Мамай-Кутан ( Гаджиев , 1991. C. 163–168); в предгорной зоне – на Сигитминском поселении (Там же. C. 147–149).
Погребальный обряд оседлого населения Дагестанской плоскости во втор. пол. III тыс. до н. э., как и в предшествующее время, представлен коллективными захоронениями, которые совершались в конструкциях типа катакомб, вырытых в толще глины естественных холмов. Но фиксируются и другие конструкции, например расположенный в горной зоне Гонобский склеп – многокамерное, прямоугольное сооружение с каменными стенками, в котором также совершались коллективные погребения (Там же. C. 169).
Последняя треть III тыс. до н. э. стала периодом значительных изменений в культурной эволюции Дагестана и Северо-Восточного Кавказа в целом. Максимальное усиление аридности в XXIV–XXIII вв. до н. э. и последовавшая вслед за этим относительная гумидизация климата активизировали миграционные процессы и стимулировали формирование новых культур, которые стали определять культурный ландшафт этого региона в конце III – перв. пол. II тыс. до н. э.
В Дагестане в это время существуют локальные образования, среди которых выделяются как автохтонные, так и пришлые. К местным, кроме завершающей свое развитие великентской культуры куро-аракской культурно-исторической общности, относится формирующаяся в горной зоне гинчинская культура. А с мигрантами, носителями курганного погребального обряда, связано распространение в это время катакомбных погребений манасской группы и начало формирования присулакской курганной культуры эпохи средней бронзы.
Вслед за коллапсом северомесопотамской цивилизации в последней трети III тыс. до н. э. в «Плодородном полумесяце» Северной Месопотамии с рубежа III–II тыс. до н. э. прослежен очередной цикл гумидизации климата. К XIX– XVIII вв. до н. э. здесь фиксируется один из наивысших уровней демографической плотности, что говорит о максимальной урожайности этого периода ( Амиров , 2010. C. 62). После падения Аккадской империи тут происходят процессы активного государственного строительства, связанного с семитскими племенами, известными как амореи.
Начавшийся в Кавказском регионе гумидный цикл перв. пол. II тыс. до н. э. коррелирует с Туралинской трансгрессией Каспийского моря. Этот трансгрес-сионный цикл, несмотря на отмеченные флуктуации, охватывает все II и начало I тыс. до н. э. ( Варущенко и др. , 1987. C. 112, 113).
С начала II тыс. до н. э. в Закавказье происходит формирование ряда культур эпохи средней бронзы (камирбердская, тазакендская, севано-узерликская, кизил-ванская) ( Кушнарева , 1983; Симонян , 1984). Линию развития культур – носителей курганных погребальных обрядов типа Марткопи и Бедени – продолжают вдоль среднего течения Куры триалетская культура и вдоль Аракса курганные группы типа Неркин Навер ( Симонян , 2004), ранние курганы Лори-Берда ( Деведжян , 2006. C. 192–196), курганы Аруча и Маисяна ( Арешян , 1979; 1987), курган Ванадзора (Кировакан) ( Пиотровский , 1949. C. 46, 47), большой курган Карашамба ( Оганесян , 1988) и др.
Как уже было отмечено, на Дагестанской плоскости в конце III тыс. до н. э. еще сохраняются отдельные поселения, остатки куро-аракской общности, такие как Геме-Тюбе I, Земовар-Тепе, Мамай-Кутан (Гаджиев, 1991. C. 182. Рис. 60) финального этапа великентской культуры эпохи средней бронзы в Южном Дагестане (Магомедов, 1985; 1987; 1998. C. 134, 135). К этой культурно-хронологической группе памятников также относится Сигитминское поселение (верхний слой), расположенное севернее, на правом берегу Сулака – в контактной зоне на стыке степи и предгорий (Гаджиев, 1991. C. 148. Рис. 36).
Для памятников этого периода характерно, с одной стороны, сочетание традиционных элементов культуры, что выражено, к примеру, в наличии барбо-тинной керамики, а с другой – в использовании связанных с культурой номадов импортных предметов, в частности керамических сосудов со шнуровым орнаментом, каменных топоров кабардино-пятигорского типа и т. п.
На рубеже III и II тыс. до н. э. степная зона и предгорья Дагестана заняты преимущественно носителями курганного погребального обряда, который отмечен вдоль речных долин, даже во внутренних районах Дагестана. В бассейне Среднего Сулака локализуется несколько курганных групп, среди которых в месте выхода Сулака на плоскость – Миатлинский и Чиркейский курганные некрополи ( Атаев , 1987). Подкурганные погребения этого времени были прослежены вдоль русла Сулака вплоть до Ирганая во Внутреннем Дагестане ( Магомедов, Хангишиев , 1988; Атаев, Мирзоев , 2012). Для этих памятников характерен синкретизм погребального обряда, сочетающий элементы автохтонной и пришлой культуры степных номадов, объединяющей каменные погребальные конструкции и курганные насыпи ( Атаев , 2008; 2010). Аналогичный синкретизм погребальной обрядности был отмечен в Дагестане и в других местах, например в курганах, исследованных в районе селений Утамыш, Кафыр-Кумух (Гентал), Гертма и Салису ( Гаджиев , 1974).
Еще одна курганная группа, для которой характерны погребения, совершенные в катакомбах, была исследована на приморской равнине Дагестана – от Махачкалы на севере и до реки Гамри-озень на юге. В литературе она часто называется Манасской группой ( Мунчаев, Смирнов , 1956. C. 191; Магомедов , 2000), но, судя по всему, аналогичные подкурганные погребения в катакомбах встречаются и южнее, по меньшей мере до русла реки Рубас-чай ( Мунчаев, Смирнов , 1956. C. 191, 192).
Эти курганы представляют собой локальный вариант катакомбной культуры эпохи средней бронзы. Керамика из основных погребений этих курганов представлена преимущественно поздними, пережиточными куро-аракскими формами (Там же. Рис. 4–10) и посудой гинчинского облика, среди которой были и сосуды с поверхностью, обмазанной глиной (Там же. Рис. 7: 6-8 ). Металлические предметы, обнаруженные в погребениях, очевидно, также представляют собой местные, кавказские изделия (Там же. Рис. 3а; 5).
В то же время в южной части Приморского Дагестана, между реками Гамри-озень и Самур, где на рубеже III–II тыс. до н. э. сохранилась автохтонная популяция, отчетливо прослежено взаимодействие местного населения и мигрантов. В это время в наиболее поздних коллективных захоронениях Великентского комплекса встречаются неизвестные ранее каменные топоры «кабардино-пятигорского» типа, а в подкурганных захоронениях (наряду с традиционным применением охры, галечниковой подстилки, деревянных конструкций (срубов), иногда деревянных повозок, некоторых форм керамики степного и северокавказского происхождения, декорированных шнуровым орнаментом, и других элементов быта номадов) встречаются металлические предметы и керамика местного происхождения (Магомедов, 2000; Атаев, 2008).
Во внутреннем Дагестане в этот период распространена гинчинская культура, которая объединяет памятники горной части Дагестана и Юго-Восточной Чечни ( Магомедов , 1998. C. 9). Она сформировалась на основе варианта куро-аракской культуры, существовавшей здесь в предшествующее время (Там же. C. 185, 186).
Хозяйственный уклад носителей гинчинской культуры в горной зоне основан на террасном земледелии. Наряду с земледелием большое значение в хозяйстве имело скотоводство (Там же. C. 186). Ведущим типом домостроения становятся многокамерные прямоугольные жилища (Там же. C. 53). Для погребальных сооружений типичными являются прямоугольные и круглоплановые каменные склепы с коллективными захоронениями (без выраженной позы и ориентировки погребенных).
На заключительном этапе развития, к XV в. до н. э., в рамках гинчинской вызревают элементы новой археологической культуры, и в 3-й четв. II тыс. до н. э. гинчинская культура плавно трансформируется в каякентско-хорочоевскую ( Магомедов , 1994; 1998. C. 186).
Список литературы Дагестан. Культурный процесс в свете климатических колебаний эпохи раннего и среднего голоцена
- Амиров Ш. Н., 1994. Морфология керамики халафской культуры Северной Месопотамии (По материалам поселения Ярым Тепе II): автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 18 с.
- Амиров Ш. Н., 2010. Хабурская степь Северной Месопотамии в IV -первой половине III тыс. до н. э. М.: Таус. 411 с.
- Амиров Ш. Н., 2014. Месопотамско-кавказские связи в IV-III тыс. до н. э. в свете климатических флуктуаций//КСИА. Вып. 233. С. 3-17.
- Амиров Ш. Н., Немировский А. А., 2014. К вопросу о Кавказско-Переднеазиатских связях в IV-III тыс. до н. э. (О распространении куро-аракской культуры на Переднем Востоке)//Древние культуры Юго-Восточной Европы и Западной Азии. сб. к 90-летию и памяти Н. Я. Мерперта/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: ИА РАН. C. 291-310.
- Амирханов Х. А., 1987. Чохское поселение: Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана. М.: Наука. 224 с.
- Амирханов Х. А., 2008. Хунзахская стоянка -памятник верхнего палеолита в центральном Дагестане//Археология Кавказа и Ближнего Востока/Ред.: Н. Я. Мерперт, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 41-52.
- Амирханов Х. А., Таймазов А. И., 2017. Палеолитические находки у с. Хадаги (Республика Дагестан)//КСИА. Вып. 249. Ч. I. С. 7-15.
- Арешян Г. Е., 1979. Курганы Аруча//АО 1978 г. М.: Наука. С. 518.
- Арешян Г. Е., 1987. Маисянские курганы//АО 1985 г. М.: Наука. С. 559.
- Атаев Г. Д., 1987. Чиркейские курганы бронзового века//СА. № 1. С. 145-157.
- Атаев Г. Д., 2008. Процессы этнокультурного развития Северо-Восточного Кавказа в эпоху ранней и средней бронзы//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. XXV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и соц. иссл. С. 14-17.
- Атаев Г. Д., 2010. Контакты населения горного Дагестана со степными племенами в эпоху средней бронзы//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. № 6. С. 39-44.
- Атаев Г. Д., Мирзоев Р. Н., 2012. Итоги исследований памятников эпохи средней и начала эпохи поздней бронзы в зоне строительства Ирганайской ГЭС в 2002-2007 гг.//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. ХХVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала: Мавраевъ. С. 22-23.
- Ахундов Т., 1999. Древнейшие курганы Южного Кавказа. Культура подкурганных склепов. Баку: Элм. 115 с.
- Ахундов Т., 2001. Северо-Западный Азербайджан в эпоху энеолита и бронзы. Баку: Элм. С. 332 с.
- Варущенко С. И., Варущенко А. Н., Клиге Р. К., 1987. Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени. М.: Наука. 240 с.
- Гаджиев М. Г., 1974. Дагестан и Юго-Восточная Чечня в эпоху средней бронзы//Древности Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат. С. 11-28. (Материалы по археологии Дагестана; т. 5.).
- Гаджиев М. Г., 1991. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: Эпоха энеолита и ранней бронзы. М.: Наука. 264 с.
- Гаджиев М. Г., Кореневский С. Н., 1984. Металл великентской катакомбы//Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане/Отв. ред. М. М. Маммаев. Махачкала. С. 7-27.
- Гаджиев М. С., Магомедов Р. Г., 2008. Торпах-кала -Куро-аракское поселение и сасанидское городище в южном Дагестане//Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию Р. М. Мунчаева. М.: Таус. С. 276-297.
- Гиджрати Н. И., Ростунов В. Л., 1993. Памятники эпохи энеолита и ранней бронзы в горах Северной Осетии//Кавказ и цивилизации Востока в древности и средневековье: межвуз. сб. науч. тр. Владикавказ: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 75-101.
- Гобеджишвили Г. Ф., 1980. Бедени -культура курганных погребений. Тбилиси: Мецниереба. 145 с. (На груз. яз.; рез. на рус. яз.)
- Гугуев Ю. К., Магомедов Р. Г., Малашев В. Ю., Фризен С. Ю., Хохлова О. С., Хохлов А. А., 2010. Исследование курганов южной группы Паласа-Сыртского могильника в 2008 г.//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 11. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 283-299.
- Деведжян С. Г., 2006. Лори-Берд, II (Средняя бронза), Ереван: Гитутюн. 426 с. (На арм. яз.; рез. на франц. яз.).
- Дедабришвили Ш. Ш., 1979. Курганы Алазанской долины. Тбилиси: Мецниереба. 144 с. (Труды Кахетской археологической экспедиции; т. 2.)
- Джалабадзе М., 1998. Беденская культура в Шида-Картли (поселение Бериклдееби): автореф. дис. … канд. ист. наук. Тбилиси. 35 с. (На груз. и рус. яз.)
- Джапаридзе О. М., 1996. Культура ранних курганов на территории Закавказья//Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э.: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А. А. Иессена/Ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: ГЭ. С. 76-78.
- Джарапридзе О., Авалишвили Г., Церетели А., 1986. Отчет работы Кахетской (Марткопской) археологической экспедиции за 1980-1981 гг.//Археологические экспедиции Государственного музея Грузии. Вып. VIII. Тбилиси. С. 29-35. (На груз. яз.)
- Золотов К. Н., 1968. Остеологические особенности сельскохозяйственных животных по материалам археологических раскопок//Тр. ДСХИ. Т. XVIII. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во. С. 155-173.
- Кушнарева K. Х., 1983. К проблеме выделения археологических культур периода средней бронзы на Южном Кавказе//КСИА. Вып. 176. С. 9-15.
- Лионне Б., Алмамедов К., Буке Л., Курсье А., Джелилов Б., Хусейнов Ф., Лут С., МахаРАдзе З., Рейнард С., 2011. Могильник эпохи позднего энеолита Союг Булаг в Азербайджане//РА. № 1. С. 48-61.
- Магомедов Р. Г., 1985. К выделению памятников великентской группы эпохи средней бронзы//Всесоюзная археологическая конференция «Достижения советской археологии в XI пятилетке»: тез. докл. Баку. С. 221-223.
- Магомедов Р. Г., 1987. К изучению этнокультурной ситуации на Северо-Восточном Кавказе в эпоху средней бронзы//Этнокультурные процессы в древнем Дагестане. Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР. С. 22-35.
- Магомедов Р. Г., 1991. О комплексах майкопской культуры на территории Дагестана//Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 13-38.
- Магомедов Р. Г., 1994. Гинчинская и каякентско-хорочоевская культуры: проблемы преемственности//XVIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Кисловодск. C.16.
- Магомедов Р. Г., 1998. Гинчинская культура. Горы Дагестана и Чечни в эпоху средней бронзы. Махачкала: ДНЦ РАН. 378 с.
- Магомедов Р. Г., 1999. Алазано-беденские керамические импорты и вопросы интерпретации и датировки посткуро-аракских комплексов Северо-Восточного Кавказа//Кавказ и Древний Восток: сб. ст., посвящ. 70-летию со дня рожд. Р. М. Мунчаева. Махачкала. С. 103-147.
- Магомедов Р. Г., 2000. Материалы к изучению культур эпохи бронзы в Приморском Дагестане. Махачкала: ДГУ. 119 с.
- Магомедов Р. Г., Хангишиев Г. Дж., 1988. Новые исследования памятников эпохи средней бронзы в зоне водохранилища Ирганайской ГЭС//XV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Махачкала. С. 9-11.
- Махарадзе З. Э. Погребения с повозками эпохи ранней бронзы Грузии. (В печати.)
- Махарадзе З. Э., 1996. Поселение Цихиагора и проблема периодизации культур эпохи бронзы на территории Грузии//Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э.: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А. А. Иессена/Ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: ГЭ. С. 72-75.
- Махарадзе З. Э., Орджоникидзе А. З., 2007. К проблеме изучения так называемой «культуры ранних курганов» в Грузии//Археология, этнология и фольклористика Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе». Махачкала: Эпоха. С. 83-84.
- Мунчаев Р. М., 1975. Кавказ на заре бронзового века: Неолит, энеолит, ранняя бронза. М.: Наука. 415 с.
- Мунчаев Р. М., 1982. Энеолит Кавказа//Энеолит СССР/Отв. ред.: В. М. Массон, Н. Я. Мерперт. М.: Наука. С. 93-164. (Археология СССР.)
- Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., 2012. Еще РАз о Месопотамско-Кавказских связях в IV-III тыс. до н. э.//РА. № 4. С. 37-47.
- Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., 2016. Телль Хазна 1. Культово-административный центр IV-III тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. Т. 2. М.: Таус. 604 с.
- Мунчаев Р. М., Смирнов К. Ф., 1956. Памятники эпохи бронзы в Дагестане: Курганная группа у станции Манас//СА. № 26. С. 167-203.
- Мусаев Д., 2009. Северо-Восточный Азербайджан в эпоху ранней бронзы//Азербайджан -страна, связывающая восток и запад. Обмен знаниями и технологиями в период «первой глобализации» VII-IV тыс. до н. э.: междунар. симпозиум, Баку, 1-3 апреля 2009 года. Баку. С. 77-81. (На англ. и рус. яз.)
- Мусеибли Н. А., 2007. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку: Нафта-пресс. 228 с.
- Мусеибли Н. А., 2010. Результаты раскопок поселения Пойлу II лейлатепинской культуры//Археология, этнология и фольклористика Кавказа: сб. кратких содержаний докладов Междунар. конф. Тбилиси. С. 208-211.
- Мусеибли Н. А., 2014. Поселение лейлатепинской культуры Галаери в Азербайджане//Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Междунар. науч. конф. М.: ИА РАН. С. 82-84.
- Нариманов И. Г., Ахундов Т. И., Алиев Н. Г., 2007. Лейлатепе. Поселение, традиция, этап в этнокультурной истории Южного Кавказа. Баку: N-Print. 127 с.
- Небиеридзе Л. Д., 2007. Первый поздненеолитический памятник в Квемо Картли//Археология, этнология и фольклористика Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе». Махачкала: Эпоха. С. 43-44.
- Небиеридзе Л. Д., 2010. О терминах, обозначающих Цопскую археологиче¬скую культуру//Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси. С. 228-229.
- Небиеридзе Л. Д., Цквитинидзе Н., 2011. Первые следы урукской культуры на Южном Кавказе//Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси. С. 178-180.
- Оганесян В. Э., 1988. Серебряный кубок из Карашамба//Историко-филологический журнал. № 4. Ереван. С. 145-161.
- Пиотровский Б. Б., 1949. Археология Закавказья с древнейших времен до I тысячелетия до н. э. Л.: ЛГУ. 160 с.
- Симонян А. Е., 1984. Культура эпохи средней бронзы северных районов Армянского нагорья: автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. 19 с.
- Симонян А. Е., 2004. «Царское» погребение эпохи средней бронзы из могильника Неркин Навер//Археология, этнология, фольклористика Кавказа: сб. кратких содержаний докладов Междунар. науч. конф. Тбилиси. С. 126-127.
- Хельвинг Б., 2009. Азербайджан в эпоху халколита с юго-западной перспективы//Азербайджан -страна, связывающая восток и запад. Обмен знаниями и технологиями в период «первой глобализации» VII-IV тыс. до н. э.: Междунар. симпозиум, Баку, 1-3 апреля 2009 года. Баку. С. 63-70. (На англ. и рус. яз.)
- Amirov Sh. N., 2014. The life and death of Tell Hazna I settlement//Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Vol. I/Eds: P. Bieliński et al. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. P. 323-334.
- Amirov, Sh. N., Deopeak D. V., 1997. Morphology of the Halafian Painted Pottery from Yarim Tepe 2, Iraq//Baghdader Mitteilungen. Vol. 28. P. 69-86.
- Kohl Ph., Magomedov R., 2014. Early Bronze developments on the West Caspian Coastal plain//Paleorient. Vol. 40. No. 3. P. 93-114.
- Kroll S., 1990. Der Kultepe bei Marand. Eine chalkolithische Siedlung in Iranisch-Azarbaidjan//Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 23. S. 59-72.
- Lebeau M., Suleiman А., 2005. Tell Beydar/Nabada. An Early Bronze Age City in Syrian Jezirah//Tell Beydar/Nabada. An Early Bronze Age City in Syrian Jezirah: 10 Years of Research (1992-2002)/Eds: M. Lebeau, А. Suleiman et al. Damascus. P. 89-91. (Documents D'Archeologie Syrienne; VI.)
- Lyonnet B., 2014. The early bronze age in Azerbaijan in the light of recent discoveries//Paleorient. Vol. 40. No. 2. Р. 115-130.
- Lyonnet B., Guliev F., Helwing B., Aliev T., Hansen S., Mirtskhalava G., 2012. Anсient Kura 2010-2011: The First Two Seasons of Joint Field Work in the Southern Caucasus//Archaologische mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 44. P. 1-190.
- Makharadze Z., 2007. Nouvelles données sur le Chalcolithique en Géorgie orientale//Les Cultures du Caucase (VIe-IIIe millénaires avant notre ère): leur relations avec le Proche-Orient/Ed. B. Lyonnet. Paris: Éditions du centre national de la recherche scientifique. P. 123-131.
- Museibli N., 2014. The Grave Monuments and Burial Customs of the Leilatepe Culture. Baku: Nafta-Press. 156 p.
- Nishiaki Y., Guliyev F., Kadowaki S., Alakbarov V., Miki T., Salimbayov Sh., Akashi Ch., Arai S., 2015. Investigating Cultural and Socioeconomic Change at the Beginning of the Pottery Neolithic in the Southern Caucasus: The 2013 Excavations at Hacı Elamxanlı Tepe, Azerbaijan//BASOR. Vol. 374. P. 1-28.
- Palumbi G. A., 2007. Preliminary Analysis on the prehistoric pottery from Aratashen (Armenia)//Les cultures du Caucase (Vie-IIIe avant notre ere): leurs relations avec le Proche-Orient/Ed. B. Lyonnet. Paris: Éditions du centre national de la recherche scientifique. P. 63-76.
- Ristvet L., Weiss H., 2005. The Hābūr Region in the Late Third and Early Second Millennium B. C.//The History and Archaeology of Syria. Vol. 1/Ed. W. Orthmann. Saabrucken: Saarbrucken Verlag. P. 1-26.
- Rova E., 2014. The Kura-Araxes culture in the Shida Kartly region of Georgia: an overview//Paleorient. Vol. 40. No. 2. Р. 47-69.
- Staubwasser M., Weiss H., 2006. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric -early historic West Asia//Quaternary Research. Vol. 66. Iss. 3. Р. 372-387.
- Weiss H., Courty M. A., Wetterstrom W., Guichard F., Senior L., Meadow R., Curnow A., 1993. The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization//Science. Vol. 261. Iss. 5124. Р. 995-1004.