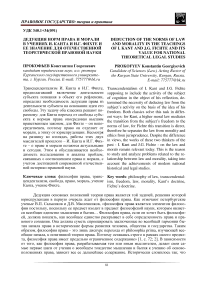Дедукция норм права и морали в учениях И. Канта и И.Г. Фихте и ее значение для отечественной теоретической правовой науки
Автор: Прокофьев Константин Георгиевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (53), 2018 года.
Бесплатный доступ
Трансцендентализм И. Канта и И.Г. Фихте, предполагавший включение деятельности субъекта познания в объект его рефлексии, определил необходимость дедукции права из деятельности субъекта на основании идеи его свободы. Эту задачу оба классика решают по-разному: для Канта переход от свободы субъекта к нормам права опосредован высшим нравственным законом, для Фихте - он непосредственен, поэтому право он отделяет от морали, а этику от юриспруденции. Несмотря на разницу во взглядах, работы этих двух мыслителей прошлого - И. Канта и И.Г. Фихте - о праве и морали остаются актуальными и сегодня. Этим и обуславливается необходимость исследования и анализа проблем, связанных с соотношением права и морали, с учетом достижений современной отечественной историко-правовой науки.
Философия права, трансцендентализм, свобода, право, мораль, учение канта, учение фихте
Короткий адрес: https://sciup.org/142232843
IDR: 142232843 | УДК: 340.1+34(091)
Текст научной статьи Дедукция норм права и морали в учениях И. Канта и И.Г. Фихте и ее значение для отечественной теоретической правовой науки
Дедукция основных положений теории права является той задачей, решения которой юриспруденция в первую очередь ждет от философии права. Как отмечают петербургские ученые В.П. Сальников и Д.В. Масленников, «философия права является элементом философии постольку, поскольку ее предмет входит в предмет философской науки, которым является всеобщее единство мышления и бытия… Философия права, если он хочет быть философией, должна показать, как всеобщее единство раскрывает в себе определенность права и правового сознания. Она должна суметь спроецировать заключенные во всеобщей гармонии бытия начала права в исторические формы развития человека, общества и государства. Таким образом, философия права – это лишь дискурс перехода от philosophia prima, изучающей всеобщие начала, к позитивной теории права. Поэтому оставаясь строго в рамках своего предмета, философия права имеет предельно ограниченное содержание» [1, с. 72; 2]. В зависимости от того, как философия права, разрабатываемая тем или иным мыслителем, делает свои самые первые шаги от учения о всеобщем тождестве мышления и бытия к учению об основоположениях права, зависит все ее дальнейшее содержание. Исторически сложилось так, что
вопрос о дедукции права оказался тесно переплетен с вопросом о дедукции норм морали. Однако логическое обоснование их взаимосвязи до сих пор остается в дискуссионном поле теории права, этики и философии.
Выдающийся философ И. Кант вошел в историю философии как автор специального метода познания, «где анализ субъекта является необходимым элементом синтеза наших знаний об объекте» [3, с. 61-64]. Сам Кант свой этот метод, в работе Основы метафизики нравственности. Критика практического разума [4], называет трансцендентальным методом. Согласно этому методу, познание исходит из идеи свободы субъекта, поскольку субъект, имеющий объектом только себя, не зависит ни от чего вне себя. Поэтому и он, и его объект, могут мыслиться только как абсолютная, себя определяющая, независимость, т.е. как свобода [4, с. 171]. Развивая идею свободы в ее субъективном измерении, Кант создал предпосылки для ее предельно широкого понимания, включающего в себя субъект, объект и абсолют, что мы и находим в учении классиков немецкой философии. Отсюда, «… классическая немецкая философия права ни восстанавливает теорию естественного права, ни пролонгирует концептуальные основания общественного договора, а развивает понимание права, основанное на впервые представленной в истории науки развернутой философской интерпретацией христианской идеи свободы» [5, с. 171].
Однако, в силу субъективистских установок своей философии, Кант полагает, что идея свободы не может быть постигнута, поскольку не может быть дана в опыте. Притом что только опыт Кант считает единственно возможной формой познания. В таком случае, настаивает Кант, мы должны признать свободу в качестве не просто одного из условий цепочки практических поступков, а в качестве их конечного и обуславливающего условия. Свобода, являющаяся одновременно основанием и целью ряда условий практических поступков, составляет содержание кантовского понятия моральности. Согласно закону свободы, моральность – это «причинность, которая не есть явление, хотя результат ее находится тем не менее в явлении» [4, с. 83]. В том же контексте Кант подчеркивает исключительно духовный (в его формулировке – «интеллектуальный») характер свободы: «Идея свободы имеет место единственно в отношении интеллектуального как причины к явлению как действию. Поэтому мы не можем признать за материей свободу в отношении ее непрерывного действия...» [4, с. 166]. Исходя из этого, Кант утверждал, что следование человеком за своими природными наклонностями исключает моральный характер мотивов его поступков.
Согласно такой логике, Кант жестко отделяет сферу природного, естественного, от сферы морального и, далее, от сферы правового. В природе действует причинность, согласно закону необходимости, в сфере морали и права – причинность согласно закону свободы [4, с. 211]. Именно поэтому автор «Критики практического разума» хотя и использует понятие естественного права, но, фактически, отводит его на второй план, чтобы избежать возможного соотнесения с понятием природности. Место высшего естественного закона, который ранее трактовался как врожденная идея разума (рационалистический вариант философии права) или как продукт общественного договора (эмпирический вариант философии права), в учении Канта занимает высший нравственный закон. Последний является законом свободы, поскольку субъект сам ограничивает им себя, следуя указаниям собственного разума, общего, по мнению Канта, для всех людей. И здесь проходит водораздел между трактовкой источника права и морали и их взаимоотношения в предшествующих этико-правовых теориях и в учении Канта. Согласно Канту, поступок человека является моральным только в том случае, если мы рассматриваем его с содержательной стороны, т.е. с учетом его мотива, и усматриваем в этом мотиве исключительно чистое стремление к следованию высшем нравственному закону. Если же мы рассматриваем поступок только с точки зрения формального соответствия высшему нравственному закону, оставляя за рамками нашего рассмотрения мотив действия, то поступок можно будет определить как легальный. Право развивается из принципа легальности, поэтому его требования носят, в отличие от морали, формальный характер.
Для обоснования дедукции права из принципа легальности Кант вынужден сначала решить вопрос о том, как возможно внешнее (т.е. правовое) принуждение воли свободной личности при сохранении принципа автономии воли. Благодаря свойству автономии свободная воля сама устанавливает ограничивающий ее закон, который не зависит от характера того предмета, на который направлен акт воли. Воля, имеющая объектом абсолютное благо, опре- деляется Кантом как «безусловно, добрая воля». Безусловно, добрая воля является первой ступенью на пути дедукции понятия права, так как ее содержанием является исключительно форма самого воления, а ее основным законом является стремление сделать свой принцип (максиму) всеобщим законом. Право не является произвольной установкой разума или договором группы лиц только в том случае, если возможно применение чистого практического разума, в критике которого Кант выясняет, как возможно такое синтетическое суждение.
Итак, по Канту, для морали и права в качестве высшего закона существует только нравственный закон как закон автономной воли. Основу обязательности закона надо искать не в природе человека и не в тех обстоятельствах в мире, в которые он поставлен, но в априорных понятиях чистого разума. Естественному праву Кант противопоставляет положительное, или статуарное, право, которое является результатом реализации воли законодателя. Отсюда, по Канту, следуют правомочия, которые он разделяет на прирожденные правомочия и правомочия приобретенные [4, с. 291]. Для И. Канта свобода является «вещью-в-себе». По Канту, мы не знаем, что есть свобода с содержательной стороны, но мы знаем, что ее идея необходима для разума и из этой необходимости, а также на основании принципа всеобщности разума, мы дедуцируем систему права и систему морали. Различие права и морали и их понятийное взаимодействие, поэтому, также могут трактоваться лишь как субъективные условия регулирования деятельности теоретического и практического разума. Причем право и мораль у Канта глубоко взаимосвязаны: сначала Кант дедуцирует высший закон нравственности, а уже из него выводит необходимость права и понятие об его форме. Право, таким образом, морально обусловлено и получает свою санкцию в области морали.
Иначе обстояло дело в учении И.Г. Фихте. Автор «Наукоучения» исходил из кантовского принципа трансцендентализма, но при этом полагал, что Кант, ограничив познание высших принципов – идеи самосознания и идеи свободы – не понял сам себя. Согласно Фихте, абсолютное самосознание как источник дедукции всякого знания является практическим действием, а свобода – первичным условием осуществления этого действия. Самосознание и ее свобода являются не каким-то внешним объектом, а способом самореализации самого субъекта. Поэтому, считал Фихте, спрашивать о познании свободы бессмысленно, т.к. его идея сама является первичным условием всякого познания. Фактом сознания эту свободу делает акт рефлексии, который ученый не сводит, подобно Канту, к форме опыта: «Разуму принадлежит здесь только наблюдение за движением Я, обращение же на самого себя составляет деятельность самого Я, которое поэтому объективно по отношению к рефлексии» [6, с. 484].
Из этого высшего начала, который он обозначает термином «Я», автор «Наукоучения» и стремится дедуцировать идею права в соответствии с разработанным им методом науки о праве [6, с. 165–168]. Исходным пунктом дедукции этико-правовых норм в системе Фихте является рефлексия свободы «Я», которая становится объектом созерцания самой себя и тем самым полагает себя. В самой деятельности самосознания Фихте находит в качестве предпосылки идею признания существования иных самосознаний. В области философии права он видит своей задачей дедукцию права из самосознания Я.
Эта дедукция осуществляется в три этапа. Прежде всего, Фихте доказывает, что «всякое конечное разумное существо не может полагать себя, не приписывая себе свободной деятельности» [6, с. 20-23]. Далее, необходимость свободной деятельности Я полагает чувственный мир, не относящийся к сфере Я [6, с. 26-30]. Другими словами, мое самосознание, по Фихте, не может быть содержательным и свободным, если я не допускаю бытия других столь же свободных самосознаний. Таким образом, у Фихте право непосредственно дедуцируется из самосознания. «… вследствие проведенной дедукции мы утверждаем, что понятие права заложено в сущности разума и что невозможно никакое конечное разумное существо, в котором не находилось бы это понятие – отнюдь не вследствие опыта, научения, произвольных распоряжений, действующих среди людей и т.п., но вследствие его разумной природы» [6,

Поэтому подлинно первичным, по Фихте, оказывается не отдельное самосознание (как у Канта) и не множество эмпирически данных индивидов, а их изначальное единство, которое является как субстанцией, так и субъектом морально-правовых отношений. Это единство немецкий ученый как раз и обозначает посредством понятия свободы. Согласно Фихте, самосознания, входящие в сферу свободы, утверждают пределы своей деятельности, тем самым внося в сферу свободы внутренние границы. Вместе с тем они не выходят за общие границы сферы свободы, иначе последняя была бы «упразднена» [6, с. 13]. На этой основе Фихте формулирует свое понятие права, в рамках которого «мысленно представляют всякого члена общества ограничивающим своей внутренней свободой, свою внешнюю свободу так, чтобы все другие рядом с ним также могли быть во внешнем отношении свободны» [6, с. 13].
Соответственно, решает автор «Наукоучения», и вопрос об отношении права и морали: поскольку право можно с математической точностью вывести непосредственно из разума, то нет и необходимости введения морального звена в цепь дедуктивных рассуждений, ведущих к идее права. Он пишет: «Дедуцированное понятие права не имеет ничего общего с нравственным законом, дедуцировано без него, и уже в этом заключается, поскольку для одного и того же понятия возможно не более одной дедукции, фактическое доказательство того, что его не следует дедуцировать из нравственного закона» [6, с. 52]. Значит, науки о праве и морали также не связаны друг с другом: «Обе эти науки уже изначально и без нашего содействия разделены разумом и совершенно противоположны друг другу» [6, с. 53]. Такой подход, конечно, был прямо противоположен кантовскому учению. Однако и учение Фихте вызвало серьезное сопротивление со стороны некоторых представителей немецкой философии права. Поэтому и отмеченная нами заочная дискуссия между Кантом и Фихте по вопросу об отношении права и морали, этики и юриспруденции еще не получила своего окончательного разрешения (как и многие другие вопросы, поставленные германской государственноправовой наукой) [7, с. 11-19].
Да и в отечественной теоретической правовой науке, особенно в свете обсуждения проблем природы, нового для России, правового государства, появилась потребность в новом углублении к проблемам взаимоотношения права и морали, а также к истокам естественного права. К тому же, ко всему этому нас обязывает и появившиеся в постсоветской Конституции Российской Федерации совершенно новые положения, имеющие непосредственное отношение к соотношению права и морали. Имея в виду эти новые положения Конституции Российской Федерации, профессор Ф.М. Раянов пишет: «В естественном своем происхождении любое сообщество людей начинается с выработки строго определенных правил поведения, обязательных участникам этого сообщества. Речь идет о естественных законах природы человека, которые рождаются в естественно - исторических условиях и называются естественными правами и свободами человека, являющимися прирожденными и неотчуждаемыми. Именно о них и говорится в различных актах международного права. О них идет речь и в ст. 18 Конституции РФ 1993 г., причем впервые за всю длительную историю России» [8, с. 6]. Представляется, что эти положения, вряд ли, согласуются с утверждениями И. Канта о вторично-сти естественного права в дедукции права вообще.
В другой своей работе, посвященной проблемам правового государства, профессор Ф.М. Раянов сетует на то, что плодотворные дореволюционные исследования российских мыслителей о правовом государстве, к сожалению, не продолжались не только в советское, но и в постсоветское время. В частности, он пишет: «Если сравнить изыскания в этой области наших современных ученых и ученых досоветского периода, то в трудах таких ученых как В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, С.А. Котляревский, Н.М. Коркунов, Н.И. Палиенко, и некоторых других, вопросы правового государства раскрывались более глубоко и всесторонне» [9, с. 4]. Хотелось бы отметить и то, что Ф.М. Раянов и общественный договор характеризует в совершенно новом звучании для сегодняшней нашей страны. В частности, он считает, что «проблемы юриспруденции нужно начинать осмысливать в увязке с проблемами конститу- ционализма и правового государства. Если мы пойдем таким путем, то непременно выйдем на утверждение о том, что право – это, прежде всего, общественный договор. В современном же мире общественный договор – это конституция страны. Как она составлена, чьи интересы она представляет, какие блага обещает и гарантирует своим гражданам, насколько соответствует принципам правового государства – от этого в значительной степени и зависит природа и сущность юриспруденции» [10, с. 24]. Конечно, и эти утверждения автора нацеливают на более глубокое изучение проблем соотношения права и других социальных норм.
В целом, мы понимаем, что даже самые новые положения Конституции Российской Федерации, полностью соответствующие современным мировым стандартам, могут быть полноценно осмыслены лишь с опорой на многовековые естественно-правовые основы развития человеческого общества и с обязательным учетом действия на них всех социальных норм.
Список литературы Дедукция норм права и морали в учениях И. Канта и И.Г. Фихте и ее значение для отечественной теоретической правовой науки
- Сальников В.П., Масленников Д.В. Философия права Ф.М. Достоевского как источник развития теории российского государства и права/Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 5-6 апреля 2018 г.)/отв. ред. Ф.Х. Галиев. В 2-х ч. Ч. 1. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. С. 72-79.
- История философии права/отв. ред. В.П. Сальников, Д.В. Масленников. СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998.
- Масленников Д.В. Природа логического в философии абсолютного идеализма (Гегель и Фихте). СПб.: НОИР, 2011.
- EDN: QXBJFP
- Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. СПб., 1995.
- Масленников Д.В. Богочеловек и идея права/Мир политики и социологии. 2015. № 12. С. 167-173.
- EDN: VONNXF
- Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. 1. СПб., 1993.
- Сальников В.П., Курзенин Э.Б., Сальников М.В. Развитие политико-правовой мысли от Гуго Гроция к представителям германской государственно-правовой науки/Правовое поле современной экономики. 2014. № 10. С. 11-19.
- EDN: UNTHEL
- Раянов Ф.М. Правовое обществоведение. М.: Юрлитинформ, 2018.
- EDN: YSBZVC
- Раянов Ф.М. Актуальные проблемы теории и практики правового государства в России/Правовое государство: теория и практика. 2010. № 1 (19). С. 3-8.
- EDN: VHLVTF
- Раянов Ф.М. Теория правового государства в России: состояние, пути переосмысления/Lex Russika. 2015. № 8. С. 14-25.
- EDN: UJIPLL