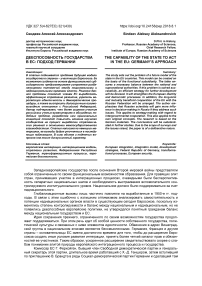Дееспособность государства в ЕС: подход Германии
Автор: Синдеев Алексей Александрович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается проблема будущей модели государства в странах - участницах Евросоюза. Ее возможное создание на основе функциональной субсидиарности предусматривает устранение разбалансировки полномочий между национальными и наднациональными органами власти. Решение данной проблемы позволит членам ЕС выработать эффективную стратегию развития, укрепить европейскую идентичность и демократические процедуры, а также выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Автор подчеркивает, что более широкое участие российских ученых-гуманитариев в обсуждении подобных проблем, разработка ими оригинальных концепций позволят повысить влияние научного сообщества на процесс выработки стратегических решений в отношении межгосударственного взаимодействия. Статья написана на немецких материалах, ее выводы будут уточняться в последующих публикациях. В силу объема и поднятых вопросов она носит дискуссионный характер.
Европейская интеграция, интеграционная модель, стратегии развития, федеративная республика германия, трансформационные процессы, европейская безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/149132391
IDR: 149132391 | УДК: 327.5(4-627ЕС):321(430) | DOI: 10.24158/pep.2018.8.1
Текст научной статьи Дееспособность государства в ЕС: подход Германии
Синдеев Алексей Александрович
Западноевропейские государства после окончания Второй мировой войны представляли собой ограниченные по своим функциональным возможностям образования. Для правящих элит стран, принимавших участие в интеграционных процессах, очевидными были бесперспективность сепаратных национальных шагов и необходимость выстраивания вспомогательного контролируемого институционального уровня. Национальное должно было поддерживаться за счет наднационального.
Глобализационные вызовы лишь частично повлияли на выработанные в 1950-е гг. подходы. В связи с этим ошибочно с излишним оптимизмом анализировать самостоятельность и потенции наднациональных органов власти в существующем сегодня Евросоюзе, поскольку изменялись степень контролируемости и баланс между национальным и наднациональным, но не появились дееспособные европейские политики, не утверждался понятный гражданам баланс между национальным государством и ЕС.
Идея сохранения прежнего, ограниченного по своим возможностям государства продолжает поддерживаться. При этом речь идет об особой ценности собственного государства, политической культуры и связанных с ними элементов идентичности. Обвинения в адрес Вишеградской группы в национальном эгоизме являются бессмысленными. Германия, Франция и другие страны – основательницы ЕС имели достаточно времени для того, чтобы до расширения Евросоюза создать иные условия развития интеграции, принять более четкий каталог прав и обязанностей ее участников. Таким образом, ускоренное расширение свидетельствовало скорее о слабом понимании элитой природы европейского интеграционного процесса и государства.
Комиссар ЕС Г. Ферхойген, бывший член Свободной демократической партии и генеральный секретарь этой партии, длительное время работавший с Х.-Д. Геншером, затем вступивший по приглашению В. Брандта в ряды Социал-демократической партии Германии и сделавший там политическую карьеру, с согласия канцлера Г. Шрёдера «отбросил» выработанные Еврокомиссией сценарии приема новых членов. При этом он рассуждал следующим образом: ни экономические, ни стратегические интересы не должны стоять на первом месте, важны морально-исторические обязательства, вопрос справедливости, ведь большинство стран-кандидатов «не по своей вине попали под коммунистическое господство» [1, S. 40].
Политическая система ЕС все еще находится в зачаточном состоянии. Последнее касается и общей политической культуры. Известно, что политическая система способна оставаться дееспособной и предсказуемо изменяться в условиях сложившейся структуры традиционных подсистем. Если в институциональной подсистеме ярко выражена роль национальных государств, а партии и общественно-политические движения выступают в качестве дисперсных квазиобразований, то вполне ожидаемы сбои в работе нормативной и коммуникативной подсистем. Более того, взаимодействия в коммуникативной подсистеме могут иметь хаотичный характер, а ценностная основа - способствовать воспроизведению множества ритуальных приемов и средств, не содержащих особого смысла.
Несформированность европейской наднациональной политической системы в исследовательской литературе принято описывать как «децентрализацию» и «уникальность». Применение историко-генетического метода позволяет прийти к другому выводу: уникальность и децентрализация - это результат возможного и не всегда до конца продуманного с точки зрения последствий компромисса элит государств-участников. Получается, что несовершенный результат не интерпретируется в общественно-политическом и научном дискурсе как продукт противоречивой реальности, чем он и является на самом деле, а возводится в ранг достижения. Но ведь компромисс всегда должен оставаться ограниченным во времени и по содержанию феноменом. Длительная фиксация и поддержание его ценности означают перенос ошибок на новый этап развития, свидетельствуют скорее о страхе потерять имеющееся, чем о желании получить лучший результат.
В условиях холодной войны борьба национальных элит за лучший результат перестала быть определяющей. Возобладало стремление сохранить имеющуюся модель с достигнутым уровнем благосостояния и благополучия, гарантировать ее привлекательность. Сакрализация построенной политической модели стала одной из фундаментальных ошибок: отныне не человек и его поиск определяли развитие, а технократические механизмы и приспособление к ним. Раскрепощение индивида, свойственное XIX в., благодаря чему Европа и смогла прийти к теперешней модели, сменилось возвращением к мнимой упорядоченности. Застой в СССР и вера в защиту со стороны США позволяли сохранять в странах Европейских сообществ и ЕС национальный политический инструментарий без значимых изменений, применять его и после 1991 г. Одним из последствий сакрализации модели и самодостаточности европейских элит является бесплодность нашего времени с точки зрения появления новых идей, без чего мобилизационные алгоритмы не в состоянии гарантировать длительную результативную работу. Идейная бесплодность элиты предоставляет шанс альтернативным подходам контрэлиты.
Еврокризис, кризис с беженцами продемонстрировали, что непрогнозируемые и неотрегулированные в правовом плане ситуации остаются на повестке дня, а антикризисный менеджмент перестал быть эффективным и приносить долгосрочные решения. Теоретически возможны два взаимосвязанных ответа: признание ограниченных функциональных возможностей государства и последующая контролируемая эволюция национального государства, а также согласованная стратегия развития Евросоюза. Однако робкие попытки, предпринятые Комиссией Юнкера, пока остаются нереализованными.
30 марта 2017 г. в бундестаге бывший в то время министром иностранных дел ФРГ З. Габриэль заметил: «Конечно, приятно, когда Китай, США и Россия постоянно хотят вести переговоры с Германией. Но в этом есть и опасность. Это ловушка, в которую нам не следует попадать. Нам нужно дать понять: “Да, мы готовы говорить, и у нас есть своего рода поручение по стабилизации и ответственности за Европу. Но в конце концов недостаточно говорить только с Германией, все имеют равную ценность. Европа состоит из большего числа небольших... государств”» [2, S. 22892]. Помимо очевидного нежелания выполнять неблагодарную роль лидера в ЕС, бросается в глаза, что задачи по «стабилизации и ответственности за Европу» Германия намеревается перераспределить среди партнеров на основе коллективного лидерства. В свою очередь премьер-министр Баварии М. Зёдер, представляющий Христианско-социальный союз, одну из партий правящей коалиции, заявляет о конце упорядоченного мультилатерализма в мире.
Общая ситуация в Германии складывается крайне противоречиво, о чем свидетельствует и беспрецедентное обращение четырех союзов немецких предпринимателей к политикам. «Вместо борьбы за лучшие решения по существу, - написано в нем, - мы видим дискуссию, по большей части отдаленную от центральных проблем людей и фирм. Политика и общество не должны отчуждаться друг от друга. Партийно-политические споры вредят имиджу Германии... Наша страна и наш континент стоят перед большими вызовами: демографические изменения, сохранение нашей конкурентоспособности в глобальном масштабе, цифровизация, нехватка квалифицированных кадров, торговые конфликты, а также миграционные потоки в Европу. Эти вызовы требуют политической воли для принятия европейских долгосрочных и ориентированных на будущее решений» [3].
Канцлер А. Меркель (Христианско-демократический союз) выступает в основном за конкретные прагматические шаги. «Во-первых, мы должны продвигать, – заявила она в бундестаге, – дальнейшее снижение рисков в банковском секторе и процесс завершения создания банковского союза… Во-вторых, мы хотим… превратить европейский стабилизационный механизм в своего рода Европейский валютный фонд… В-третьих, и это, пожалуй, самое сложное, конкурентоспособность стран зоны евро; отсутствие конвергенции и слишком большие различия в конкурентоспособности затрудняют сохранение стабильности валюты на перспективу…» [4, S. 4110–4111].
Идея европейской солидарности, связанная с коллективным лидерством, во многих принципиальных вопросах ограничивается для канцлера решением индивидуальных национальных задач и соблюдением правового стандарта, что явно недостаточно даже для ее пошаговой прагматики. «Каждый должен придерживаться согласованных правил; каждое государство-участник само ответственно за свой бюджет; ответственность и контроль связаны друг с другом; долгового союза не будет», – заметила А. Меркель [5, S. 4111]. В подобной логике ЕС сможет приблизиться к конвергенции только спустя десятилетия.
По большому счету интеграционная стратегия А. Меркель – это пока только декларация необходимости задуматься о подходах к ней. По ее мнению, «за пределами экономического и валютного союза нам нужны стратегические концепции для будущего Европы. Речь идет о вопросе нашей производительности… Нам нужно стать во внешней политике более последовательными и действенными. Германия будет использовать возможность работать в качестве непостоянного члена Совета безопасности для того, чтобы продвигать европейскую координацию в международных вопросах, прежде всего, конечно, с Францией» [6].
Часть оппозиции настоятельно требует радикального пересмотра используемых средств. А. Гауланд («Альтернатива для Германии»), к примеру, заявил следующее: «…мир был когда-то понятнее: на Востоке – злые, на Западе – добрые. Но этот век простоты окончательно ушел в прошлое. Американский президент следует своим интересам: торговым – в Канаде, стратегическим – в Сингапуре. Нам предстоит привыкнуть к тому, что не общий ценностный фундамент, а совпадение интересов предоставляет почву для сотрудничества и для противоборства. Это означает, что старые, оправдавшие себя государственные подходы должны определять масштаб успеха или неуспеха, а не то, соответствует ли внутренняя структура страны нашим ценностям» [7, S. 4114]. Впрочем, следует отметить, что в ситуации отсутствия согласованной стратегии ценности выполняют одновременно роль аксиом и фундамента. Безальтернативный отказ от них создаст дополнительные трудности, поэтому ожидать его не стоит. Ставка на «оправдавшие себя государственные подходы» без обсуждения дееспособности государства – это путь в никуда.
Особое сотрудничество с Францией, упомянутое А. Меркель, свидетельствует о том, что поиск средств усиления национального государства в ЕС продолжается, хотя многое из того, что можно отнести к стратегической перспективе, остается слишком неопределенным. «В процессе реформы Европы мы должны слышать голоса наших граждан, – значится в “Мезеберском заявлении”. – Франция и Германия решили продолжать встречи-дискуссии с гражданами в Европе для того, чтобы поддерживать демократические дебаты в преддверии выборов… Европейский союз останется верен своим ценностям… будет решительно защищать, реформировать и укреплять мультилатерализм… Исключительные национальные и несогласованные шаги приводят только к неудачам и раздору. С целью утверждения европейской кооперации Франция и Германия в формате усиленного двустороннего сотрудничества до конца 2018 г. разработают новый Елисейский договор, при этом ими руководит цель продвинуть их экономическую, социальную и налоговую гармонизацию, развить новые инструменты для их трансграничного сотрудничества…» [8].
В начале XXI в. сложилась крайне любопытная ситуация: с одной стороны, сохранение национального государства как привычной формы организации политической активности граждан и поддержания демократии, а значит, и европейской политической модели, требует усиленного сотрудничества в многосторонних форматах и различных интеграционных объединениях, с другой – должно произойти системное переосмысление национальных задач и функций. Настало время вести дискуссии о функциональной субсидиарности, что означает полный отказ от восприятия ЕС в качестве вспомогательного уровня [9]. В отличие от перераспределения отдельных задач функциональная субсидиарность предусматривает передачу функций.
Исходя из вышеизложенного можно сделать по крайней мере четыре вывода.
-
1. Успешное системное реформирование ЕС возможно только на основе определения дееспособности государств – участников интеграционного процесса в XXI в. и формирования нового баланса между национальным и наднациональным уровнями власти. Для этого требуются
-
2. Германия ни в одиночку, ни в двусторонних форматах не готова выступить в роли лидера, поскольку в стране происходят сложные процессы выработки общественно-политического консенсуса, крайними полюсами которого становятся защита предпринимательской свободы как средства гарантии благосостояния и стремление сохранить в неизменном виде Родину. В этих условиях правящие элиты продолжают прежнюю тактику пошаговой лоскутной вспомогательной интеграции, что приведет к еще большей разбалансировке между наднациональным и национальным уровнями и нанесет заметный урон дееспособности государства. Особенность Германии – замалчивание принципиальных проблем.
-
3. Германия и большинство стран ЕС достигли самого высокого уровня благополучия и благосостояния в своей истории. Для граждан важно сохранить достигнутое и гарантировать его передачу будущим поколениям. Следовательно, переход к стратегическому планированию в политической деятельности становится альтернативой привычному решению текущих проблем и указаний на мнимую сложность современности. Неслучайно пошаговость и прагматизм А. Меркель, по мнению некоторых немецких политиков, представляются как устаревшие. Постепенный переход к стратегическому планированию будет поддержан населением. Кроме того, реализация согласованной стратегии способна актуализировать и скорректировать ценностный арсенал, обосновать его сохранение. Стратегические подходы и мышление позволят использовать потенциал, заложенный в модели либеральной демократии [11]. Отказ от стратегического планирования означает усиление кризисных явлений.
-
4. Более широкое участие российских ученых-гуманитариев в обсуждении проблем дееспособности государства и стратегического планирования, представление ими оригинальных подходов и концепций позволят повысить влияние научного сообщества на процесс выработки стратегических решений в отношении межгосударственного взаимодействия.
готовность элит инициировать серьезное обсуждение проблемы ограниченности возможностей государства, предложения о согласованных подходах по наднациональному каталогу функций и примерной среднесрочной программе их реализации [10]. В противном случае любые реформы будут носить незавершенный характер. Следует, однако, понимать, что подобное обсуждение предполагает появление реальных лидеров, готовых взять на себя ответственность. Простой констатации важности ЕС для существования отдельных стран недостаточно.
Ссылки:
-
1. Verheugen G. Europäische Integration aus historischer Erfahrung: Ein Zeitzeugengespräch mit Michael Gehler. Bonn, 2014. 44 S.
-
2. Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 228. Sitzung (Donnerstag, den 30. März 2017). Berlin, 2017. 252 S. (I–XII, 22839– 23078).
-
3. Gemeinsamer Appell der deutschen Wirtschaft: Aus Verantwortung für Deutschland und Europa, den 29. Juni 2018. Berlin, 2018. 2 S.
-
4. Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 42. Sitzung (Donnerstag, den 28. Juni 2018). Berlin, 2018. 192 S. (I–VI, 4107– 4332).
-
5. Ibid. S.4111.
-
6.Ibid.
-
7. Ibid. S.4114.
-
8. Erklärung von Meseberg, den 19. Juni 2018 [Электронный ресурс] // Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. URL: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2018/06/2018-06-19-erklaerung-
meseberg.html/ (дата обращения: 08.07.2018).
-
9. Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? М., 2015. 240 с.
-
10. Schwan G. Ohne Solidarität hat Europa keine Zukunft // Europa in der Krise: Vom Traum zum Feindbild? / hrsg. von E. Stoiber, B. Hombach. Marburg, 2017. S. 93–100.
-
11. Хелд Д. Модели демократии. М., 2014. 544 с.
Список литературы Дееспособность государства в ЕС: подход Германии
- Verheugen G. Europäische Integration aus historischer Erfahrung: Ein Zeitzeugengespräch mit Michael Gehler. Bonn, 2014. 44 S.
- Deutscher Bundestag - 18. Wahlperiode - 228. Sitzung (Donnerstag, den 30. März 2017). Berlin, 2017. 252 S. (I-XII, 22839-23078).
- Gemeinsamer Appell der deutschen Wirtschaft: Aus Verantwortung für Deutschland und Europa, den 29. Juni 2018. Berlin, 2018. 2 S.
- Deutscher Bundestag - 19. Wahlperiode - 42. Sitzung (Donnerstag, den 28. Juni 2018). Berlin, 2018. 192 S. (I-VI, 4107-4332).
- Erklärung von Meseberg, den 19. Juni 2018 [Электронный ресурс] // Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. URL: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2018/06/2018-06-19-erklaerung-meseberg.html/ (дата обращения: 08.07.2018).
- Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? М., 2015. 240 с.
- Schwan G. Ohne Solidarität hat Europa keine Zukunft // Europa in der Krise: Vom Traum zum Feindbild? / hrsg. von E. Stoiber, B. Hombach. Marburg, 2017. S. 93-100.
- Хелд Д. Модели демократии. М., 2014. 544 с.