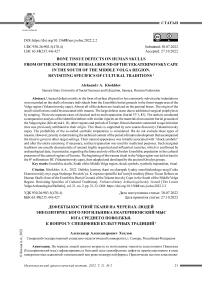Дефекты костной ткани на черепах людей энеолитического могильника Екатериновский мыс юга Среднего Поволжья. К вопросу специфики культурных традиций
Автор: Хохлов Александр Александрович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
На черепах людей зрелого возраста из могильника энеолита лесостепного Поволжья (Екатериновский мыс) зафиксированы в большой доле своеобразные дефекты преимущественно в виде поверхностных вдавлений эллипсоидной или реже подокруглой формы. Практически все они локализованы на теменных костях. Происхождение малых по размерам поражений могло быть связано с ударной травматикой. Возникновение больших дефектов обязано проведению дополнительной хирургической профилактики методом скобления. Имеются отдельные случаи классической сквозной трепанации (погр. 57/1, 83). Проведен сопоставительный анализ дефектов - травм с подобными повреждениями по материалам из древних могильников Поволжья (Хвалынск I, II), других регионов и времени Европы. Их происхождению ранее придавался ритуальный характер в связи с обрядами возрастной инициации. Этот тезис с поступлением новых источников (Екатериновский мыс) поддерживается. Рассмотрен вопрос о вероятности их отнесения к так называемой символической трепанации. Этот контекст причин не исключается. Однако приоритет в определении технического содержания периода развития травмы, сопровождавшего ритуал, отдан другим целевым установкам. Их натуральное возникновение изначально связано с «ударной символикой» и после проведения всего обряда, при необходимости, применялась поверхностная трепанация в лечебных целях. Такие маргинальные традиции обычно свойственны древним высокоорганизованным и влиятельным обществам, что подтверждается археологическими данными, в частности, относительно известности и роли хвалынского энеолитического населения в культурогенетических процессах центральных районов Евразии. Начало ритуалу травмирования в Поволжском регионе было положено как минимум в 6 тыс. до н.э. (мог. Екатериновский мыс), затем заимствовано и развито древнехвалынскими группами.
Черепа эпохи энеолита, юг среднего поволжья, ударная символика, символическая трепанация, ритуал
Короткий адрес: https://sciup.org/149141709
IDR: 149141709 | УДК: 930.26:903.5(470.4) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.2.2
Текст научной статьи Дефекты костной ткани на черепах людей энеолитического могильника Екатериновский мыс юга Среднего Поволжья. К вопросу специфики культурных традиций
DOI:
На территории энеолитического грунтового могильника, исследованного в 2016–2018 гг. отрядом САЭ у села Екатериновка Безенчук-ского района Самарской области, было обнаружено 101 захоронение. Культурная принадлежность памятника еще строго не обозначена. По авторам раскопок [Королев и др., 2015] хронологически он занимает позицию между комплексами самарской (Съезжее I) и хвалын-ской энеолитических культур. Это было подтверждено серией дополнительно полученных радиоуглеродных дат: Екатериновский мыс (6415–5995 /± 30 BP; PSUAMS:2876, 2884), Съезжее I, погр. 2 (5925 ± 25 BP, PSUAMS-8842), Хвалынск I, II (5995–5625 /±25 BP; PSUAMS:2884,2885). На скелетах людей фиксируется специфическая патология, которая может быть связана с культовыми церемониями древних обществ, и это заслуживает отдельного внимания.
Материал и методы
На 17 черепах (10 мужских, 6 женских и один неопределенный), принадлежавших людям зрелого возраста (погр. 1, 2, 20, 24, 28, 45, 49, 57, 73, 80а (череп № 3), 81, 83, 84, 86, 82, 94, 97), зафиксированы своеобразные дефекты (рис. 1). Все они, за одним исключением (погр. 73), локализованы на теменных костях, представляют собой преимущественно эллипсоидной и иногда округлой формы поверхностные вдавления. Их размеры от 11,0 х 11,0 мм2 (погр. 73) до 24,0 х 55,0 мм2 (погр. 82). В ряде случаев на черепах встречается по несколько таких костных дефектов. Максимальное их количество – до пяти – на черепах из погр. 49, 57, 86. В основном потревожена верхняя компакта. На некоторых черепах затронут слой диплоэ и есть отдельные дефекты, где разрушена внутренняя компакта, отчасти вследствие посмертных воздействий.
Методы диагностики поверхностных прижизненных повреждений на скелетах, а именно выяснения конкретных причин их возникновения не могут быть окончательно разработаны ввиду разной рефлексии костной ткани на какие-либо стрессовые воздействия (экологические, физические). По таким чувствительным вопросам обычно используют врачебный, криминалистический и палеоантропологический опыт, а также, если имеются, этнографические источники.
Анализ
На двух черепах (погр. 57/1, 83) (рис. 2) фиксируются в сумме три сквозных повреж- дения, два на первом и одно на втором. Особенно они выразительны на правых теменных костях. На первом черепе подовальной формы (погр. 57/1:29,0 х 18,5 мм2), на втором эллипсоидной (погр. 83: 20,0 х 32,0 мм2), с наклонно-отвесными входными краями. Происхождение таких дефектов сомнений не вызывает – это классическая трепанация, выполненная с использованием приема скобления, и, возможно, отчасти сверления. Кроме того, стенки входа во внутреннюю полость черепа заглажены, ее средний слой (диплое) облитерирован, что рассматривается как заживление травм. На правой теменной кости черепа фиксируется еще одна, менее выразительная, но все же сквозная трепанация (24,0? х 44,5? мм2). Таким образом, могильник Екатериновский мыс предоставил дополнительные случаи сквозной медицинской трепанации для эпох камня и палеометалла Евразии, возраст которых около 8 000 лет от наших дней.
Вызывает внимание вопрос происхождения поверхностных дефектов, особенно небольших размеров. Аналогичные им, описанным выше по общему характеру поражения костной ткани, были зафиксированы ранее во множественных случаях на черепах географически сравнительно близких энеолитичес-ких могильников Поволжья Хвалынск I и Хвалынск II [Мкртчян, 1988; Хохлов, 2010; 2012]. Их характер и локализация на краниологических материалах обоих памятников во многом идентичны. В публикациях названных исследователей отмечалась вероятность ритуального назначения этих повреждений.
В хвалынских могильниках нет отчетливого примера сквозной трепанации, за исключением сомнительного случая (Хвалынск II, погр. 32 [Хвалынские энеолитические могильники ... , 2010, с. 418]) в виде небольшого округлого отверстия на правой теменной кости у лямбды (8,5 х 10,0 мм2). В могильнике Ека-териновский мыс имеется похожее небольшое округлое глубокое вдавление на затылочной кости под лямбдой (погр. 73: 11,0 х 11,0 мм2). Оба напоминают небольшие трепанации, выполненные методом сверления, но это не очевидно. Нужно отметить, что в могильнике Хвалынск II (погр. 21) есть отчетливые следы скобления лекарем участка левой теменной кости, а именно в виде наличия ряда па- раллельных трасс (рис. 3) и сформировавшейся затем вокруг них костной мозоли. Это прямой показатель проведения поверхностной трепанации методом скобления. Форма этой незажившей травмы ладьевидная.
По хвалынским материалам дефекты обнаружены преимущественно на черепах людей пожилого возраста (примерно старше 40 лет), за исключением одного случая (Хвалынск II, погр. 28, возраст индивида около 25– 35 лет). В екатериновской выборке дефекты встречены на черепах молодых индивидов чаще, причем один из них происходит из самого, судя по погребальному инвентарю, элитного захоронения (погр. 45) [Королев и др., 2018].
По частоте обнаружения количества травм среди людей зрелого возраста (старше 20–25 лет) формируется ряд: Хвалынск I (19,1 %) – Екатериновский мыс (35,7 %) – Хвалынск II (71,4 %). Здесь нужно иметь в виду, что в первом случае наблюдения неполные [Мкртчян, 1988], во втором плохая сохранность большинства черепов не позволила выявить подобные дефекты, которых, возможно, было бы больше, в третьем сохранность материала удовлетворительна и был осуществлен максимально полный его сбор антропологом в полевых условиях 1987–1988 годов. Так, из всех случаев наиболее объективный результат по представительности черепов с дефектами демонстрирует краниологическая серия могильника Хвалынск II (71,4 %).
Связывать происхождение описываемых дефектов с физиологическими расстройствами организма под влиянием каких-либо стрессовых факторов природной среды, способствовавших развитию столь специфических костных деструкций, в условиях здоровой экологической обстановки и при разреженной плотности населения столь древнего времени, большого смысла не имеет. Причину возникновения таких дефектов вследствие именно естественной патологии, проявляющейся причем почти в тотальных случаях, соответственно, никто из исследователей, касавшихся этой темы, не рассматривал.
Здесь, несомненно, просматривается некое антропогенное воздействие, но не боевого характера, что легко объясняется хотя бы отсутствием сквозных повреждений и следов компенсаторных трещин, последствий сильных ударных воздействий. Такие дефекты интер- претировались, как было сказано выше, в связи с обрядовыми действиями, а именно целенаправленным травмированием при помощи умеренного ударного воздействия (не с целью убить) либо проведением поверхностных символических трепанаций [Хохлов, 2010, с. 422; 2012, с. 123]. Учитывались мнения М.Б. Медниковой, специально работавшей в этой отрасли знаний с древними и современными источниками Евразии [Медникова, 2001; 2004]. Так, согласно представлению данного автора [Медникова 2001, с. 125], частые примеры поверхностной трепанации на черепе человека предполагают, что их применение может быть связано с физическим испытанием человека как символа перехода из одной социальной категории в другую (инициация подростков, замужество и рождение детей у женщин, траур и т. д.).
Интересны собранные свидетельства М.Б. Медниковой из зарубежных источников о большой доле символических трепанаций в разновременных средневековых могильниках Центральной и Южной Европы [Медникова, 2004, с. 132–134]. Она приводит мнение венгерских исследователей, которые ко всему прочему упоминают некий врачебный трактат 1603 г., где выскабливание внешней пластинки черепа рекомендовано для лечения эпилепсии. По данным П. Боева, надрезы на черепе из могильников Болгарии обнаружены у мужчин и женщин, их количество от одного до 11, символические шрамы симметричны и создают определенный геометрический узор.
Такие примеры для рассмотрения наших краниологических источников важны. Подчеркнем, что поволжские материалы связаны со значительно более глубокой древностью (6–5 тыс. лет до н.э.), на которых фиксируется показательно весомое содержание черепов с дефектами. При этом здесь имеющиеся вдавления никаких очевидных геометрических узоров не образуют и связывать их с хирургическими действиями при лечении от эпилепсии, разумеется, бессмысленно.
Подобные описанным нами поверхностные дефекты отмечались также на единичных черепах мезолита-энеолита Крыма и Надпо-рожья – Приазовья, в основном как последствие нанесенной травмы [Рохлин, 1965; Сурнина, 1961; Гохман, 1966; Батиева, 2001 и др.]. М.Б. Медникова со ссылкой на опубликован- ные данные в зарубежной и отечественной научной литературе привела также множество примеров травм, в том числе поверхностных, на черепах людей Евразии и Африки времени верхнего палеолита – бронзы, связав многие из них с так называемым обычаем поверхностного рубцевания, который на основании современных этнографических параллелей является следствием именно культово-ритуальной деятельности [Медникова, 2004, с. 124–131].
С таким мнением относительно доисторических популяций можно согласиться, но лишь отчасти, если, например, в источниках прослеживалась бы какая-либо системность, наличие большой доли повреждений и их единый характер. Можно предполагать, что при ритуальном осуществлении поверхностного рубцевания головы в архаичных обществах повреждение наносилось на ее части, которые можно было бы легко продемонстрировать окружающим как доказательства прохождения инициации (лицо, лоб). А если это наносилось на темени и затылке, значит по логике должна быть либо бритая голова, либо еще и дополнительная показательная символика, например татуировка.
По материалам энеолита Поволжья (Хвалынск I, Хвалынск II, Екатериновский мыс) совокупность знаковых характеристик, как нам представляется, в следующем. По антропологическим данным: отчетливая как минимум двухкомпонентность состава [Хохлов, 2010; 2017], наличие достаточно большого количества поверхностных дефектов на черепах людей возраста зрелый II (примерно старше 40 лет), локализация их почти исключительно на теменных костях, единичные случаи бездоказательной трепанации. По археологическим данным: неоднородная погребальная практика, наличие достаточно богатого инвентаря в отдельных захоронениях (булавы, каменные и костяные предметы, жертвенники), сложная, иерархически устроенная социальная структура, синкретичность общества – с присваивающим (охота и рыболовство) и производящим (скотоводство) типами хозяйства [Агапов и др., 1990; История Самарского Поволжья ... , 2000; Васильев, 2003; Anthony et al., 2022; и др.].
В этой сумме основных реперов очевидно, что рассматриваемое древнехвалынское и близкие ему культурно общества должны были иметь особую внутреннюю организацию, стро- го регламентирующую поведение ее членов и, возможно, вовлеченных в этот союз представителей соседних племен. Доверительным подходом ко вхождению в такие социальные объединения обычно является единство мировоззренческих верований через единую культово-ритуальную практику. На примере суммы травматических поражений на черепах энеолитических групп юга Среднего Поволжья, видимо, обнаруживаются следы одной из общих таких традиций – процедуры некоей экзекуции людей через физическое насилие, в том числе инородцев, пожелавших войти в некий, видимо, престижный в округе духовный клан. Нужно к этому сказать, что известность хвалынской культуры, судя по распространению ее артефактов, для эпохи энеолита Евразии была довольно широкой, от Южного Приуралья до Балкан, и от восточного При-каспия и Предкавказья до лесных областей Среднего Поволжья.
Для нас важно, что связанные генетически с хвалынским населением люди из синхронных захоронений Предкавказья (Прогресс-2, Вонючка-1) [Anthony et al., 2022] имели классические трепанации сквозного типа. Такие трепанации, как и прежде зафиксированные им подобные на материалах неолитического могильника Вертолетное поле Нижнего Дона [Батиева, 2001], были причислены к разряду символических [Gresky et al., 2016]. Все это, без разбора вопроса о типе самих трепанаций или иных поражений головы, с учетом археологических и морфологических данных, может указывать на существование в эпоху энеолита некоего специфического символизма в ритуальной жизни племен юга Восточной Европы. Вероятно, все это обусловливает немалые масштабы межплеменных контактов и высокий социальный престиж таких групп, среди которых древнехвалынское население занимало одну из ведущих позиций.
Следует еще раз обратить внимание на множественное травмирование людей энеолити-ческих племен Поволжья (до 3–7 травм на одном черепе). Разумеется, такое количество повреждений невозможно нанести человеку за один год. Это достаточно болезненные действия, которые связаны с риском летального исхода индивида от болевого шока, инфекции, психических стрессов. По материалам могильника Хвалынск II прослеживается положительная корре- ляция – увеличение количества травм с увеличением возраста индивида [Хохлов, 2012, с. 123]. Скорее всего, обряд символической травматики происходил планомерно, с определенной периодичностью, при наступлении подходящего момента.
Было ли это травмирование при помощи ударного воздействия или символическая трепанация? Различить причину поверхностной зажившей травмы черепа – ударное воздействие или проведение поверхностной трепанации – не всегда возможно. Обращалось внимание на предметы, которые могли бы служить для проведения ударного ритуала травмирования, в первую очередь булавы вождей [Хохлов, 2010; 2012; Anthony et al., 2022]. Доказать это их предназначение сложно. Можно лишь утверждать, что так называемые скипетры служили не только показателем власти элиты, но и в определенных случаях использовались при физических наказаниях или ритуалах. Разумеется, кроме скипетров инструментом символического насилия могли быть и другие орудия, например деревянные дубины. Ударное воздействие по голове испытуемого с целью ведения его в бессознательное состояние и какие-либо манипуляции с его телом – намного менее болезненный обрядовый процесс по сравнению с поверхностной трепанацией головы. Трепанация – сложная длительная процедура с начальным этапом рассечения кожных покровов головы, скоблением и вырезанием намеченного участка, с последующими этапами наложения лечебных мазей и повязок. Она требовала профессиональных навыков эскулапа, его высокой способности как можно больше ограничить риск летального исхода для испытуемого.
Однако трепанации, в том числе и поверхностные, в первую очередь имеют в основе лечебную функцию – ликвидацию воспалительных процессов костной массы, возникших при боевых столкновениях или каких-либо бытовых обстоятельствах.
Согласно исторической логике, первична – травма ударного воздействия, вторично – проведение поверхностной трепанации с целью лечения воспаленного участка мягкой и костной ткани, третично – придание тому и другому некоей символики, в итоге возникновение и развитие специфических ритуалов.
Это примерно то же самое, что и вырастание традиции преднамеренной искусственной деформации головы на основе непреднамеренной [Сергиевский район ... , 1997, с. 98, 99]. Первое на пустом месте возникнуть не может. Обязательно должен быть некий визуальный пример, которым скорее всего могла служить искаженная форма головы ребенка вследствие воздействия на нее фиксаторов, придуманных, например для заплечной колыбели среди подвижных по хозяйственному укладу племен древности.
В случае с энеолитическим населением Поволжья мы не можем точно знать причинно-следственных связей возникновения и технической процедуры проведения ритуала травмирования. Наличие на многих екатериновс-ких, впрочем и хвалынских, черепах средних и крупных эллипсоидной или подовальной формы в основном заживших вдавлений связано именно с хирургической профилактикой повреждения, проведением трепанации преимущественно методом скобления. Вместе с тем наличие небольших размеров дефектов, а в двух случаях с небольшими зажившими трещинами в их углублении (Екатериновский мыс, погр. 49, 86), и также ряда сомнительных по происхождению вдавлений предполагает возможность применения именно травмирующих орудий ударного типа, в том числе булав-скипетров. Таким образом, на наш взгляд, приоритет следует отдать появлению изначально именно «ударной символике». Основная доля проведенных трепанаций, скорее, была предпринята в лечебных целях. Нельзя исключить, что на древних поволжских материалах мы можем также наблюдать переход к развитию символической поверхностной трепанации либо одновременно принимать к сведению комбинирование при проведении ритуала обоих символических подходов. С учетом, однако, чрезмерной психосоматической нагрузки на человека, разумеется, неодновременной (до 5–7 травм), на наш взгляд, для столь древнего общества едва ли был развит «символизм» такой болезненной операции. Предпочтительнее говорить просто о существовании ритуала символического травмирования. На примере материалов могильника
Екатериновский мыс время бытования этого обряда в лесостепном Поволжье удревнено до 6 тыс. лет до н.э.
Результаты и выводы
В среде племен юга Среднего Поволжья, известных по материалам екатериновского и хвалынских энеолитических памятников, существовал своеобразный ритуал травмирования. Он, как форма проведения некоей социальной инициации, был предназначен для людей зрелого возраста обоего пола.
Обряд состоял в нанесении травмы на голову человека в область темени. Она могла иметь комбинированный характер. Изначально была связана с ударной символикой с целью введения испытуемого в бессознательное состояние и после проведения обряда при необходимости применялась поверхностная трепанация в лечебных целях.
Цель ритуала и полную технику манипуляций с телом человека определить невозможно. Такие маргинальные экзекуции могли возникнуть и развиться только в высокоорганизованных обществах с богатой духовной идеологией. Данный аспект жизнедеятельности населения энеолита Поволжья согласуется с археологическими представлениями о его широких каналах связи, благодаря которым присущие древнехвалын-ским племенам элементы культуры распространялись и заимствовались соседними племенами на довольно большом географическом пространстве Восточной Европы.
Список литературы Дефекты костной ткани на черепах людей энеолитического могильника Екатериновский мыс юга Среднего Поволжья. К вопросу специфики культурных традиций
- Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И., 1990. Хвалынский энеолитический могильник. Саратов: СГУ. 159 с.
- Батиева Е. Ф., 2001. Новые материалы по антропологии Нижнего Подонья // Вестник антропологии. Вып. 7. С. 116–125.
- Васильев И. Б., 2003. Хвалынская энеолитическая культура Волго-Уральской степи и лесостепи (некоторые итоги исследования) // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 3. Самара: СНЦ РАН. С. 61–99.
- Гохман И. И., 1966. Население Украины в эпоху мезолита и неолита. М.: Наука. 196 с.
- История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Каменный век, 2000. Самара: Изд-во Самар. науч. центра РАН. 312 с.
- Королев А. И., Кочкина А. Ф., Сташенков Д. А., 2015. Екатериновский мыс – новый энеолитический могильник в лесостепном Поволжье // Известия СНЦ РАН. Т. 17, № 3 (2). С. 514–517.
- Королев А. И., Кочкина А. Ф., Сташенков Д. А., Хохлов А. А., 2018. Уникальное погребение могильника эпохи раннего энеолита Екатериновский мыс на Средней Волге // Stratum plus. № 2. С. 285–302.
- Медникова М. Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Науч. мир. 303 с.
- Медникова М. Б., 2004. Трепанации в древнем мире и культ головы народов Евразии. М.: Алетейа. 208 с.
- Мкртчян Р. А., 1988. Палеоантропология неолитического и энеолитического населения юга Европейской части СССР (по материалам могильников «Госпитальный холм и Хвалынский»): дис. ... канд. ист. наук. М. 171 с.
- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей (кости людей различных эпох – нормальные и патологически измененные). М. ; Л.: Наука. 303 с.
- Сергиевский район. Древность и средневековье: Археологические очерки, 1997. Самара: СамГПУ. 255 с.
- Сурнина Т. С., 1961. Палеоантропологические материалы из Вольненского неолитического могильника // Труды института этнографии. Новая серия. Т. 71. М.: Изд-во АН СССР. С. 3–25.
- Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская культура, 2010. Самара: Поволжье. 583 с.
- Хохлов А. А., 2010. Население хвалынской энеолитической культуры. По антропологическим материалам грунтовых могильников Хвалынск I, Хвалынск II, Хлопков Бугор // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Самара: Поволжье. С. 407–517.
- Хохлов А. А., 2012. Ритуальные травмы на черепах у носителей хвалынской энеолитической культуры Поволжья // Этнографическое обозрение. Вып. 2. С. 118–125.
- Хохлов А. А., 2017. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). Самара: СГСПУ. 368 с.
- Anthony D. W., Khokhlov A. A., Agapov S. A., Agapov D. S., Schulting R., Olalde I., Reich D., 2022. The Eneolithic Cemetery at Khvalynsk on the Volga River // Praehistorische Zeitschrift. Vol. 97, № 1. P. 22–67. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2022-2034
- Gresky J., Batieva E. F., Kitova A. O., Kalmykov A. А., Belinskiy A. B., Reinhold S., Berezina N. Ya., 2016. New Cases of Trepanations from the 5th to 3rd Millennia BC in Southern Russia in the Context of Previous Research: Possible Evidence for a Ritually Motivated Tradition of Cranial Surgery? // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 160, № 4. P. 665–682.