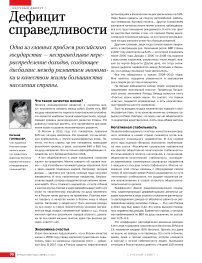Дефицит справедливости
Автор: Гонтмахер Евгений
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Ученый совет. Научный диспут
Статья в выпуске: 9 (137), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142171113
IDR: 142171113
Текст статьи Дефицит справедливости
Что такое качество жизни?
Понятия «экономическое развитие» и «качество жизни» несомненно связаны между собой. Более того, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности является наиболее точной характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Это довольно сложные расчеты, они применяются для сравнения стран по уровню экономического развития.
В России в 2012 году этот показатель превысил $15 тыс. на душу населения. Это означает, что мы вплотную приблизились к группе высокоразвитых стран. Понятно, что есть страны, где этот показатель превышает российский уровень в разы, составляя $40 и $50 тыс. на душу населения. Это не только нефтедобывающие государства, но и Западная Европа и США.
А вот общепринятого в мире показателя «качество жизни» не существует. Можно говорить об «уровне жизни» — под этим обычно понимают доходы населения. Хотя и здесь немало подводных камней. Например, текущие доходы — зарплата или пенсия, которые люди получают ежемесячно. И есть накопленное имущество, благосостояние людей, которое определяется английским термином wealth. Это и стоимость имущества, и счета в банке и многое другое. Сейчас в мире разрабатывают рейтинги стран по накопленному имуществу на душу населения, но в России такие расчеты не применяют. Поэтому можно говорить о качестве жизни в России лишь в общих чертах. Например, у людей могут быть высокие доходы, но они живут в плохих экологических условиях (загрязненные вода, воздух, напряженный трафик и т.д.). И если жителей крупных российских городов спросить, довольны ли они своей жизнью, многие, даже при высоких доходах, ответят «нет».
Экономика счастья
И все-таки можно предположить, что в России качество жизни к 2008 году (перед кризисом) существенно повысилось. Один из косвенных признаков этого — кредитный бум. В 2007 году в России кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам увеличились на 53%. Люди брали кредиты на покупку автомобилей, мобильных телефонов, бытовой техники… Другим показателем улучшения качества жизни может служить наблюдавшееся в те годы повышение рождаемости. И хотя этот факт во многом был связан с тем, что подошло более многочисленное поколение женщин, но по статистическим данным на одну женщину стало чуть больше рождений.
Другими словами, люди тогда почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Экономика росла, ВВП страны в 2007 году увеличился на 8,3% — это второй показатель после 2000 года. Доходы с 2000 по 2008 год выросли у всех слоев населения, сократилось число людей, живших за чертой бедности. Другое дело, что тогда значительно выросло неравенство между богатыми и бедными, но и доходы последних тоже увеличились.
Все это обрушилось в кризис 2009–2010 годов. Мне кажется, ощущение уверенности в завтрашнем дне к людям до сих пор не вернулось.
На Западе развивается сейчас новое направление, называемое «экономикой счастья». Профессор Лондонской школы экономики Ричард Лэйард выпустил книгу «Счастье: уроки новой науки». Он считает, что термин «счастье» поддается определению, и есть количественные параметры для его измерения.
Если по доходам на душу населения мы подошли к группе развитых стран, то по качеству жизни мы, очевидно, серьезно отстаем. Повторю, что пока у нас нет общепринятого индикатора качества жизни, а есть лишь общая картина.
Негативная стабильность
Позволю себе выдвинуть гипотезу: качество жизни среднего человека в нашей стране снижается из-за значительного социального неравенства. В 4-м номере этого года журнала «Вопросы экономики» опубликована моя статья «Российские социальные неравенства как фактор общественно-политической стабильности». В статье вводятся понятия «негативной» и «позитивной» общественно-политической стабильности, исследуется взаимосвязь сложившихся социальных неравенств с каждым из этих двух типов стабильности. Многие положения этой статьи связаны с обсуждаемой сейчас темой. В настоящее время Россия развивается по пути «негативной» стабильности, что создает серьезные риски возникновения в стране открытого общественнополитического кризиса.
Коэффициент Джини (макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны. — Р ЕД .) для России в 2012 году был равен 0,42. Это очень высокий показатель неравенства доходов. В развитых странах, к которым мы приближаемся по ВВП на душу населения, он составляет 0,25–0,3.
Это коэффициент распределения денежных доходов. А есть еще показатели накопленного богатства. В России 1% населения владеет 80% богатств. Причем это даже не акции, не заводы и не пароходы. Это счета в банках, земля, дома и прочее имущество, которое находится в частной и личной собственности людей. Нынешнюю ситуацию в России можно сравнить с Индией 150-летней
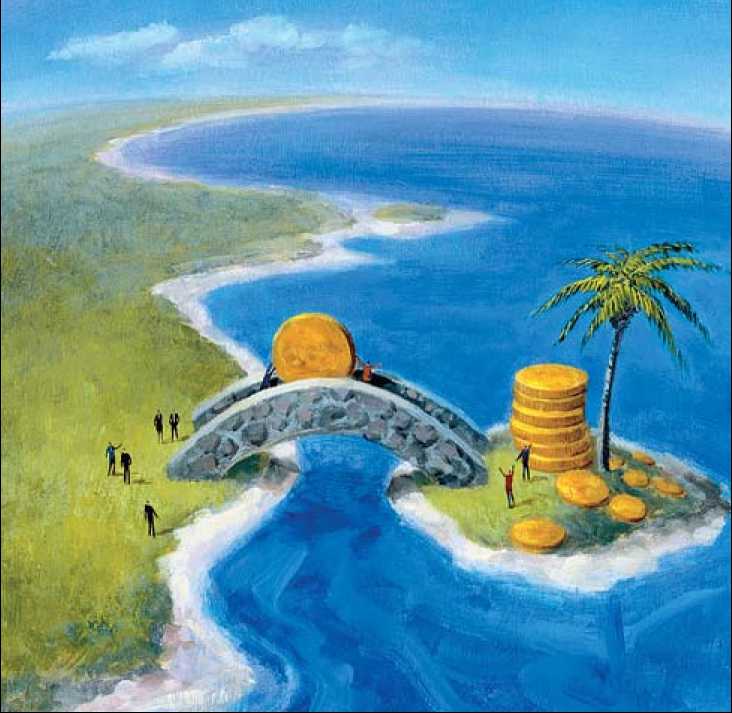
EAST NEWS
Если по доходам на душу населения мы подошли к группе развитых стран, то по качеству жизни мы, очевидно, серьезно отстаем.
давности, когда махарадже принадлежало 90% богатств его княжества. Мы близки к такому состоянию.
Если бы это был только статистический артефакт! Но ведь это неравенство сегодня все видят в самых обычных сферах нашей жизни. Есть школы для бедных, которые имеют очень скромное госфинансирование. А есть школы для детей из состоятельных семей.
Есть муниципальные поликлиники. Там надо дожидаться очереди на прием к врачу, а тот по нормативам на осмотр уделит всего несколько минут, причем большую часть времени будет что-то писать и на пациента особенно смотреть не станет. Если, конечно, вы не заболели очень серьезно. И есть ведомственные или частные поликлиники, где ваше лечение оплачивает либо работодатель, либо вы лечитесь по полису дополнительного медицинского страхования. У медиков есть даже термин «платный больной», и к таким людям — совсем другое отношение.
30 июля прошло заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности и качества медицинской помощи». Владимир Путин привел следующие данные: у нас удовлетворена здравоохранением только треть населения. А мы в эту сферу все последние годы вкладывали очень большие деньги. Был национальный проект, затем большая программа модернизации, на 2 процентных пункта были повышены взносы предприятий в Фонд медицинского страхования. И из этих средств был сформирован специальный фонд в 300 млрд руб. Эти средства были направлены в регионы для закупки оборудования, информатизации медицинских учреждений и пр. Но смотрите: только треть населения довольна медобслужива-нием. И еще надо разобраться, где эта треть обслужива- ется. Эти люди довольны муниципальной медициной или они ходят в платную поликлинику?
Сейчас особенно остро стоит вопрос о государственных гарантиях медицинской помощи населению. Она должна быть бесплатной для человека. Ведь из зарплаты каждого работника платят взносы в ФОМС и налоги в бюджет. Но даже те минимумы, которые предусмотрены программой госгарантий — а эти гарантии утверждаются каждый год, — в подавляющем большинстве российских регионов финансируются с дефицитом от 20 до 50%.
У нас на здравоохранение государство тратит 3,5% ВВП — это очень мало. В странах ОЭСР — около 7%. А если посчитать на душу населения, разница будет не в 2 раза, а в разы больше. Но проблема в том, что перед тем, как наращивать расходы (а мы должны это делать), надо разобраться, как тратятся эти деньги, разработать и ввести механизмы их эффективного расходования. Ведь, с одной стороны, звучат призывы медицинского сообщества: вы нам увеличьте финансирование и нас не трогайте, мы сами разберемся с деньгами. Думаю, это неправильно: общество должно знать, как эти средства расходуются. А с другой стороны, Министерство финансов тихо, негласно сокращает финансирование здравоохранения на ближайшие годы. Через пару-тройку лет нынешние 3,5% ВВП будут казаться большой цифрой.
При снижении финансирования здравоохранения или даже при его стабильном, не растущем финансировании неизбежно происходит дифференциация общества с точки зрения доступности медицинских услуг. Людям всегда и везде нужна медицинская помощь. Они идут в бесплатные районные поликлиники, но не получают там квалифицированной помощи. Они хотели бы обратиться в платные поликлиники, но не хватает денег. Не дай Бог, тяжело заболеет ребенок, и ему потребуется сложная операция. Причем нередко бывает, что у нас таких операций не делают, надо везти ребенка за границу. Люди продают квартиры, идут на любые жертвы ради спасения детей. Некоторым помогают благотворительные фонды.
Все это — печальные реальности нашей жизни.
Делиться надо!
В СССР были понятия «простого» и «расширенного» воспроизводства рабочей силы. Простое воспроизводство предусматривало, что работник на свою зарплату мог купить для себя, жены и ребенка минимальный набор продуктов, одежды и услуг. Расширенное воспроизводство предполагало, что человек мог сверх того приобретать книги, ходить в театры, ездить в отпуск, платить за детские спортивные и музыкальные школы. Мог даже вступить в жилищный кооператив и купить квартиру.
Сейчас таких понятий нет. Но две трети наших работников живут так, что зарплаты хватает только на закрытие текущих элементарных нужд. Многие вынуждены брать дополнительную работу, трудиться в ущерб своему здоровью.
Мне кажется, проблема качества жизни носит политический характер. В политологии употребляется термин failed state — несостоявшееся государство. Точнее — государство, которое не в состоянии выполнять свои управленческие функции в главных сферах компетенции.
\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \
А одна из важнейших функций государства — это перераспределение доходов.
В советское время государство пыталось ставить всех на один уровень с точки зрения благосостояния. Да, была партийно-советская номенклатура, которая пользовалась дополнительными привилегиями: санаториями, магазинами и т.д. Но уровень жизни элиты не сильно отличался от рядовых граждан.
Государство в условиях демократии и рыночной экономики играет роль перераспределителя доходов от богатых к бедным. Разумеется, речь идет не об уравниловке, но о достижении в обществе некоего баланса, золотой середины. Обычно это называется общественным договором.
Если в развитых странах коэффициент Джини держится на уровне 0,3 — это продукт общего понимания того, что богатые должны делиться частью доходов, а бедные должны прилагать усилия, чтобы улучшать свое положение и не быть иждивенцами. Механизм этот очень гибкий, подвижный. При наступлении каждого избирательного цикла происходит подстройка этого механизма. Когда слишком много иждивенчества, к власти приходят силы, которые представляют интересы богатых. Налоги на богатых снижаются, бедным приходится больше трудиться. Когда дело подходит к красной черте, к власти приходят социалисты, действующие в интересах более бедных слоев.
И это нормальные демократические процессы. У нас такого механизма нет.
Если бы государство занималось проблемой перераспределения доходов, не было бы таких колоссальных разрывов между богатыми и бедными. К 2008 году у нас были накоплены огромные нефтегазовые деньги. И в это же время у нас вырос коэффициент Джини. Чем занималось государство? Переводило деньги в зарубежные фонды?
Мне кажется, в нашем обществе остро ощущается недостаток справедливости. В 1990-е годы стояла, не развивалась экономика, но у людей появилось чувство свободы. Они перестали бояться говорить о социальных проблемах. И главная из них сегодня — проблема справедливого перераспределения доходов. Даже ностальгия по брежневским временам у части населения с этой проблемой связана. Многие не помнят, что в магазинах не было колбасы. Но помнят, что уровень жизни у большинства был примерно одинаков.
Сейчас люди ощущают именно дефицит государства. Не видно, чтобы оно было обеспокоено происходящим в социальной сфере. Но проблемы очевидны, и решать их надо в интересах всех слоев общества.