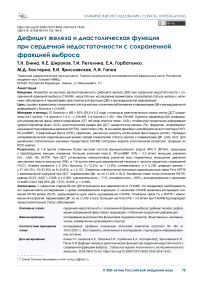Дефицит железа и диастолическая функция при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
Автор: Енина Т.Н., Широков Н.Е., Петелина Т.И., Горбатенко Е.А., Костерин М.Д., Ярославская Е.И., Гапон Л.И.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Клинические исследования
Статья в выпуске: 4 т.39, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Несмотря на высокую распространенность дефицита железа (ДЖ) при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), недостаточно исследована взаимосвязь показателей статуса железа с наличием заболевания и параметрами диастолической функции (ДФ) и миокардиальной деформации.
Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, дефицит железа, деформация резервуарной фазы левого предсердия, глобальная продольная деформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149147175
IDR: 149147175 | УДК: 616.12-008.46:616.155.194.8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2024-39-4-75-83
Текст научной статьи Дефицит железа и диастолическая функция при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
Сердечная недостаточность (СН) является серьезной медико-социальной проблемой мирового масштаба вследствие высокой распространенности и неуклонного роста. Расчетный показатель заболеваемости СН в мире в 2017 г. составил 64,3 млн человек, у 50% из них наблюдалась СН с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) [1].
СНсФВ имеет сложную патофизиологию, определяемую коморбидными заболеваниями, создающими про-воспалительный статус, микрососудистую эндотелиальную дисфункцию, кардиометаболические и структурные нарушения [2].
Уровень НУП, с успехом применяющийся для верификации и тяжести СН с низкой ФВ, не может быть использован для диагностики СНсФВ из-за его низких значений. В связи с этим ведется активный поиск новых маркеров СНсФВ, лидирующее положение в диагностике которой в настоящее время занимает оценка диастолической функции (ДФ) левых отделов сердца в покое, диастолического резерва (диастолической дисфункции с повышением давления заполнения левого желудочка (ЛЖ)) при проведении диастолического стресс-теста (ДСТ) [3].
Характерным признаком СНсФВ является нарушение функции левого предсердия (ЛП), которое рассматривают как «многофункциональный и нейроэндокринный орган», основным стимулом для эндокринной активации которого является перегрузка объемом и давлением. В определенном смысле можно сказать, что СНсФВ является предсердной кардиомиопатией с ранней дисфункцией ЛП с высокой чувствительностью к нервной, эндокринной и иммунной системам. При использовании метода отслеживания движения пятен (Speckle Tracking Echo, STE) возможен анализ фазовой деформации ЛП с оценкой показателя деформации резервуарной фазы ЛП (left atrial reservoir strain, LASr), изменяющегося уже на субклинической стадии диастолической дисфункции. В отличие от глобальной продольной деформации ЛЖ (global longitudinal strain, GLS), которая отражает укорочение миокарда ЛЖ и описывает его сократительную функцию, LASr выражает удлинение миокарда ЛП. Оценка показателя LASr является перспективной в диагностике СНсФВ и может привести к ранним профилактическим и терапевтическим вмешательствам [4].
Установлено, что до 59% больных с СНсФВ имеют дефицит железа (ДЖ) [5], который играет важную роль в патофизиологии заболевания, способствуя развитию утомляемости, снижению переносимости физических нагрузок, ухудшению качества жизни, увеличению числа госпитализаций и смертности. Железо является ключевым компонентом гемоглобина (Hb), миоглобина и других ферментов, участвующих в клеточном дыхании, окислительном фосфорилировании, цикле лимонной кислоты, образовании оксида азота и производстве кислородных радикалов. Оно необходимо для поддержания структуры и функции метаболически активных клеток, включая миоциты и клетки скелетных мышц. ДЖ связан со значительным влиянием на структуру и функцию многих органов, в том числе и сердца. Критерием ДЖ в большинстве исследований является снижение ферритина менее 100 мкг/л либо уровень ферритина в диапазоне от 100 до 299 мкг/л в сочетании с коэффициентом насыщения трансферрина железом (КНТЖ) менее 20%. Однако в научной литературе ведется активная дискуссия о необходимости пересмотра существующих критериев диагностики ДЖ.
Имеются лишь единичные работы, демонстрирующие связь ДЖ с ДФ [6, 7], GLS [8]. Не исследована связь ДЖ с показателем LASr, что определяет актуальность нашей работы.
Цель исследования: оценить взаимосвязь показателей статуса железа с наличием заболевания и параметрами ДФ и миокардиальной деформации у больных с СНсФВ.
Материал и методы
В исследование, одобренное локальным этическим комитетом (протокол № 184 от 16.03.2023 г.), были включены 67 больных с ФВЛЖ > 50% с жалобами на одышку при физической нагрузке и подозрением на СНсФВ. Средний возраст больных составил 65,8 ± 5,5 года. Из них 30 (44,8%) были женщины преимущественно (49; 73,1%) со II функциональным классом (ФК) по Нью-Йоркской классификации (NYHA). Все больные страдали артериальной гипертонией (АГ). У 57 (85,1%) была выявлена ишемическая болезнь сердца, у 12 (17,9%) из них осложненная инфарктом миокарда в анамнезе. Ожирение было выявлено у 41 (61,2%) пациента. Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) был отмечен у 22 (32,8%) больных. Пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании.
Всем больным была выполнена эхокардиография (ЭхоКГ) в покое с оценкой стандартных параметров: раз- мер ЛП и объем правого предсердия (ПП), индексы объемов ЛП и ПП, конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический размеры (КДР) ЛЖ, конечно-систолический (КСО) и конечно-диастолический объемы (КДО) ЛЖ, индексы КДО и КСО ЛЖ, ФВЛЖ, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс ММЛЖ. ФВЛЖ определяли по методу Simpson. Согласно действующим рекомендациям по оценке ДФ ЛЖ, исследовали пик Е антероград- ного трансмитрального потока, раннюю диастолическую скорость кольца митрального клапана e΄, оцененную при помощи тканевой допплерографии (Tissue Doppler Imaging, TDI), среднее соотношение скорости раннего диастолического трансмитрального потока и ранней диастолической скорости кольца митрального клапана Е/ e΄, индекс максимального объема ЛП. С помощью метода STE оценивали фазовую деформацию резервуарной фазы ЛП (LASr), глобальную продольную деформацию ЛЖ (GLS). C целью моделирования условий возникновения одышки пациентам проводилась стресс-ЭхоКГ с применением горизонтальной велоэргометрической пробы с комплексной оценкой состояния сердца (ДСТ).
Оценивали креатинин, расчетную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ). Определяли высокочувствительную фракцию С-реактивного белка (CРБ) в сыворотке крови на анализаторе BS-480 «Mindray» (Германия), используя аналитические наборы С-REACTIVE PROTEIN hs (BioSystems, Испания). В плазме исследовали уровни N-концевого фрагмента натрийуретического пептида (NT-proBNP) методом твердофазного иммуноферментного анализа (сэндвич-метод) (ALISEI, Next Level Strumenti Diagnostici, Италия). Количественное определение сывороточного железа (Fe) и ферритина проводили иммуно-турбидиметрическим методом с применением аналитических наборов реагентов COBAS INTEGRA Iron Gen.2 и Ferritin Gen.2 (COBAS INTEGRA 400 plus, Германия). Рассчитывали коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТЖ) по формуле:
КНТЖ =
сывороточное Fe
ОЖСС
× 100%,
где ОЖСС – общая железосвязывающая способность, НЖСС – ненасыщенная железосвязывающая способ- ность сыворотки.
Согласно национальным клиническим рекомендациям, критериями диагностики ДЖ являлись ферритин < 100 мкг/л или его уровень в диапазоне от 100 до 299 мкг/л в сочетании с КНТЖ < 20%. Анемия была верифицирована снижением Hb менее 13 г/дл у мужчин и 12 г/дл у женщин.
Статистический анализ проводили с помощью пакета программ SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). При нормальном распределении (критерий Шапиро – Уилка) показатели представлены средним значением и стандартным отклонением, M ± SD , при отсутствии нормального распределения – медианой и интерквартильным промежутком, Me [ Q 1; Q 3]. Категориальные показатели описывали абсолютными ( n ) и относительными (в %) частотами встречаемости. При сравнении категориальных показателей в двух независимых группах использовали χ² - критерий Пирсона, для сравнения количественных показателей с нормальным распределением в двух независимых группах – t -критерий Стьюдента, при отсутствии нормального распределения – критерий Манна – Уитни.
Для исследования связей между количественными показателями: статуса Fe с ЭхоКГ, NT-proNBP, СРБ использовали коэффициент корреляции Спирмена. Построены модели однофакторной и многофакторной логистической регрессии для выявления статистически значимых независимых предикторов СНсФВ, проведен их ROC-анализ с определением точки отсечения для показателя КНТЖ. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез составлял p = 0,05.
Результаты
С помощью ДСТ больные были разделены на 2 группы: 1-я группа ( n = 41) - пациенты с верифицированной СНсФВ, 2-я группа ( n = 26) - без СНсФВ.
Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1. В 1-й группе выявлены тенденции к большему индексу массы тела (ИМТ), большему количеству женщин, частоте ожирения.
Таблица 1. Клиническая характеристика групп
Table 1. Clinical characteristics of groups
|
Показатели |
1-я группа с СНсФВ ( n = 41) |
2-я группа без СНсФВ ( n = 26) |
Р |
|
Возраст, лет |
65,7 ± 5,6 |
66,0 ± 5,1 |
0,820 |
|
Мужчины , n (%) |
18 (43,9) |
17 (65,4) |
0,086 |
|
АГ , n (%) |
41 (100,0) |
26 (100,0) |
1,000 |
|
ИБС , n (%) |
37 (90,2) |
21 (80,8) |
0,268 |
|
ПИКС , n (%) |
7 (17,1) |
5 (19,2) |
0,822 |
|
АКШ , n (%) |
2 (4,9) |
0 (0) |
0,253 |
|
ЧКВ , n (%) |
10 (24,4) |
9 (34,6) |
0,366 |
|
ФП , n (%) |
9 (22,0) |
3 (11,5) |
0,279 |
|
ФК СН (NYHA)
|
2 (4,9) 37 (90,2) 2 (4,9) |
13 (50,0) 13 (50,0) 0 (0) |
< 0,001 |
|
СД 2 , n (%) |
16 (39,0) |
10 (38,5) |
0,963 |
|
Ожирение , n (%) |
30 (73,2) |
13 (50,0) |
0,054 |
|
ИМТ, кг/м2 |
32,7 ± 4,2 |
30,9 ± 3,9 |
0,085 |
|
Наличие ДЖ , n (%) |
18 (43,9) |
9 (34,6) |
0,157 |
|
Наличие анемии , n (%) |
5 (12,2) |
1 (3,8) |
0,238 |
|
Антиаритмические препараты , n (%) |
3 (7,3) |
1 (3,8) |
0,559 |
|
иНГКТ2 , n (%) |
5 (12,2) |
2 (7,7) |
0,535 |
|
АМКР , n (%) |
6 (14,6) |
2 (7,7) |
0,393 |
|
Диуретики , n (%) |
15 (36,6) |
9 (34,6) |
0,870 |
|
Блокаторы Са-каналов , n (%) |
10 (24,4) |
6 (23,1) |
0,902 |
|
БАБ , n (%) |
30 (73,2) |
15 (57,7) |
0,189 |
|
Дигоксин , n (%) |
0 (0) |
0 (0) |
1,000 |
|
Антикоагулянты, n (%) |
11 (26,8) |
2 (7,7) |
0,054 |
|
Дезагреганты, n (%) |
20 (48,8) |
13 (50,0) |
0,922 |
|
ИАПФ, n (%) |
13 (31,7) |
8 (30,8) |
0,936 |
|
БРА, n (%) |
20 (48,8) |
16 (61,5) |
0,307 |
|
Статины, n (%) |
35 (85,4) |
18 (69,2) |
0,113 |
Примечание: АГ артериальная гипертония; АКШ – аортокоронарное шунтирование; АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов; БАБ – β-адреноблокаторы; БРА – блокаторы ренин-ангиотен-зиновых рецепторов; ДЖ – дефицит железа; ИАПФ – ингибиторы ан-гиотензин-превращающего фермента; ИБС –ишемическая болезнь сердца; ИМТ – индекс массы тела; иНГКТ2 – ингибиторы натрий-глю-козного котранспортера; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; СД 2 – сахарный диабет 2-го типа; ФК СН (NYHA) –функциональный класс сердечной недостаточности по Нью-Йоркской классификации; ФП – фибрилляция предсердий; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.
При отсутствии различий встречаемости анемии и ДЖ в группах в общей группе анемия была выявлена у 6 (9%), ДЖ – у 27 (40,3%) больных.
В таблице 2 представлен анализ параметров ЭхоКГ в покое. В обеих группах были выявлены признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. В 1-й группе отмечены большие значения пика Е, меньшие соотношения Е/е΄ и показателя LASr, что указывает на более высокое давление в полости ЛП и его меньшую деформацию. При отсутствии различий между группами показателя GLS меньшее значение LASr в 1-й группе свидетельствует о его большей диагностической ценности при СНсФВ.
Таблица 2. Параметры эхокардиографии в группах
Table 2. Echocardiographic parameters in groups
|
Показатели |
1-я группа с СНсФВ ( n = 41) |
2-я группа без СНсФВ ( n = 26) |
р между группами |
|
МЖП, мм |
13,4 ± 2,5 |
13,0 ± 2,2 |
0,685 |
|
ЗСЛЖ, мм |
11,4 ± 1,3 |
11,3 ± 1,6 |
0,807 |
|
ММ ЛЖ, г/м2 |
240,5 ± 57,1 |
231,2 ± 67,6 |
0,567 |
|
индекс ММ ЛЖ, г/м2 |
125,4 ± 25,6 |
118,3 ± 31,8 |
0,162 |
|
КДО ЛЖ, мл |
85,9 ± 21,1 |
88,4 ± 17,0 |
0,368 |
|
КДО ЛЖ индекс, мл/м2 |
43,8 ± 9,2 |
45,2 ± 8,1 |
0,498 |
|
Размер ЛП, мм |
41,5 ± 3,8 |
40,5 ± 4,3 |
0,376 |
|
Объем ЛП, мл |
64,6 ± 13,1 |
61,3 ± 14,5 |
0,354 |
|
Индекс объема ЛП, мл/м2 |
33,9 ± 5,8 |
31,5 ± 6,8 |
0,141 |
|
Объем ПП, мл |
42,7 ± 10,3 |
43,7 ± 8,8 |
0,671 |
|
Размер ПЖ, мм |
28,1 ± 2,4 |
28,0 ± 2,3 |
0,785 |
|
ФВ ЛЖ, % |
65,5 ± 4,6 |
65,8 ± 4,2 |
0,779 |
|
СДЛА, мм рт. ст. |
25,2 ± 6,1 |
25,1 ± 4,9 |
0,76 |
|
Пик Е, см/с |
73,6 ± 16,8 |
62,1 ± 13,1 |
0,003 |
|
Пик А, см/с |
84,0 ± 22,0 |
84,0 ± 20,1 |
0,998 |
|
Е/А |
1,0 ± 0,6 |
0,8 ± 0,2 |
0,116 |
|
TDI e’ sept, см/с |
5,4 ± 1,2β |
5,5 ± 1,1 |
0,533 |
|
TDI e’ lat, см/с |
7,2 ± 1,3 |
7,3 ± 1,5 |
0,557 |
|
E/e’ |
11,9 ± 3,0 |
12,6 ± 13,5 |
0,019 |
|
GLS, % |
18,2 ± 2,9 |
18,9 ± 2,8 |
0,319 |
|
LASr, % |
21,7 ± 4,7 |
29,1 ± 4,7 |
< 0,001 |
Примечание: ЛП – левое предсердие; ПП – правое предсердие; ПЖ – правый желудочек; КСО ЛЖ – конечно-систолический объем левого желудочка; КДО ЛЖ – конечно-диастолический объем левого желудочка; МЖП – межжелудочковая перегородка; ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка; ММ ЛЖ – масса миокарда ЛЖ; ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка; СДЛА – систолическое давление в легочной артерии; E/e’ – среднее соотношение скорости раннего диастолического трансмитрального потока и ранней диастолической скорости кольца митрального клапана; GLS – глобальная продольная деформация ЛЖ (global longitudinal strain); LASr – деформация резервуарной фазы ЛП (left atrial reservior strain).
В таблице 3 представлены результаты ДСТ. При ДСТ были выявлены значимые различия всех переменных повышения давления заполнения ЛЖ. В 1-й группе отмечены меньшие максимальная нагрузка и частота сердечных сокращений (ЧСС) на высоте нагрузки.
В таблице 4 представлены биомаркеры в группах. Средние уровни NT-proBNP в группах были выше референтных значений (125 пг/мл). В 1-й группе отмечен больший средний уровень NT-proBNP.
Средние уровни СРБ в группах были в пределах референтных значений (3,0 мг/мл). В 1-й группе установлена большая частота уровня СРБ, превышающего 3,0 мг/ мл, меньшие уровни Hb и КНТЖ.
В таблице 5 представлены корреляции показателей статуса Fe с параметрами ЭхоКГ, уровнем NT-proNBP. Не выявлено корреляций с показателями LASr и GLS, уровнем СРБ.
Таблица 3. Стресс-эхокардиография с горизонтальной велоэргоме-трической пробой
Table 3. Stress echocardiography by horizontal bicycle ergometer
|
Показатели |
1-я группа с СНсФВ ( n = 41) |
2-я группа без СНсФВ ( n = 26) |
р между группами |
|
Пик Е, ФН, см/с |
122,0 [110,0; 130,0] |
91,5 [76,3; 107,5] |
< 0,001 |
|
TDI e’ sept, ФН, см/с |
7,0 [6,5; 8,0] |
9,0 [7,3; 11,0] |
< 0,001 |
|
TDI e’ lat, ФН, см/с |
9,0 [8,0; 10,0] |
11,0 [9,0; 13,0] |
< 0,001 |
|
Е/е’ average, ФН |
15,1 [13,9; 16,1] |
9,4 [8,2; 10,5] |
< 0,001 |
|
Е/е’ sept, ФН |
17,1 [15,0; 18,6] |
10,3 [9,1; 12,4] |
< 0,001 |
|
Градиент ТР ФН, мм рт. ст. |
37,3 ± 13,5 |
31,4 ± 12,5 |
0,061 |
|
Максимальная нагрузка, Ватт |
75,0 [75,0; 100,0] |
100,0 [75,0; 100,0] |
0,009 |
|
Максимальная ЧСС, уд/мин |
102,0 [96,0; 108,5] |
114,0 [108,0; 128,0] |
< 0,001 |
Примечание: ФН – физическая нагрузка; E/e’ – среднее соотношение скорости раннего диастолического трансмитрального потока и ранней диастолической скорости кольца митрального клапана.
Таблица 4. Исследуемые биомаркеры в группах
Table 4. Studied biomarkers in groups
|
Показатели |
1-я группа с СНсФВ ( n = 41) |
2-я группа без СНсФВ ( n = 26) |
р между группами |
|
NT-proBNP, пг/мл |
305,8 [206,3; 472,6] |
179,3 [93,3; 343,4] |
0,027 |
|
СРБ, мг/мл |
2,4 [1,3; 4,6] |
1,9 [0,9; 2,5] |
0,077 |
|
СРБ > 3,0 Мг/мл (%) |
13 (38,2) |
3 (11,5) |
0,032 |
|
Hb, г/л |
138,0 [130,0; 145,0] |
149,0 [130,5; 158,0] |
0,029 |
|
Железо, ммоль/л |
14,9 [9,9; 18,3] |
17,9 [13,6; 20,5] |
0,106 |
|
Ферритин, нг/мл |
115,0 [55,6; 188,7] |
144,7 [82,5; 324,8] |
0,144 |
|
Ферритин < 100 нг/мл (%) |
15 (36,6) |
7 (26,9) |
0,218 |
|
КНТЖ, % |
25,4 ± 9,4 |
31,7 ± 10,4 |
0,018 |
|
КНТЖ < 20% (%) |
10 (29,4) |
4 (15,4) |
0,203 |
|
КНТЖ < 29,2% (%) |
28 (68,3) |
8 (30,8) |
0,023 |
|
Креатинин, мкмоль/л |
73,2 ± 15,1 |
81,2 ± 16,8 |
0,053 |
|
рСКФ(MDRD), мл/мин/1,73м² |
88,4 ± 23,4 |
83,5 ± 18,3 |
0,565 |
|
рСКФ(MDRD) < 60 мл/ мин/1,73м² (%) |
4 (11,8) |
2 (7,7) |
0,639 |
Примечание: NT-proBNP – N-концевой фрагмент натрийуретического пептида; СРБ – С–реактивный белок; Hb – гемоглобин; КНТЖ - коэффициент насыщения трансферрина железом; рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации.
Таблица 5. Результаты корреляционного анализа
Table 5. Correlation analysis results
|
Группы |
Общая группа ( n = 67) |
СНсФВ ( n = 41) |
Без СНсФВ ( n = 26) |
||||||
|
Показатели |
железо |
ферритин |
КНТЖ |
железо |
ферритин |
КНТЖ |
железо |
ферритин |
КНТЖ |
|
Nt-proBNP |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
r = -0,406; p = 0,049 |
– |
|
Пик Е |
r = –0,288; p = 0,025 |
– |
r = –0,314; p = 0,014 |
– |
– |
r = –0,362; p = 0,035 |
– |
– |
– |
|
СДЛА |
– |
– |
– |
r = –0,361; p = 0,036 |
– |
r = –0,387; p = 0,024 |
– |
– |
– |
|
ФН Пик Е |
r = –0,387; p = 0,002 |
r = –0,324; p = 0,012 |
r = –0,384; p = 0,002 |
r = –0,368; p = 0,032 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
ФН Е/е΄ср. |
r = –0,328; p = 0,010 |
– |
r = –0,382; p = 0,002 |
– |
– |
– |
r = –0,425; p = 0,030 |
– |
– |
|
ФН Е/е΄sept. |
r = –0,293 p = 0,023 |
r = –0,277; p = 0,032 |
r = –0,362; p = 0,004 |
– |
– |
– |
– |
r = –0,388; p = 0,050 |
– |
|
Максимальная нагрузка при ДСТ |
r = 0,253; p = 0,051 |
– |
r = 0,302; p = 0,018 |
r = 0,368; p = 0,032 |
– |
– |
– |
– |
– |
Примечание: Nt-proBNP – N-концевой фрагмент натрийуретического пептида; СДЛА – систолическое давление в легочной артерии; ФН – физическая нагрузка (ВЭМП); ДСТ – диастолический стресс-тест; КНТЖ – коэффициент насыщения трансферрина железом; E/e’ср. – среднее соотношение скорости раннего диастолического трансмитрального потока и ранней диастолической скорости кольца митрального клапана.
В нашем случае была получена статистически значимая разница между исследуемыми группами по уровню КНТЖ, но не значимая статистически по КНТЖ < 20%. С помощью ROC-анализа найдена новая точка отсечения КНТЖ, равная 29,2% (AUC = 0,699; р = 0,009; чувствительность – 71%, специфичность – 69%), при которой различия между группами были значимыми. В дальнейшем анализе использовали категоризированную КНТЖ < 29,2%.
При построении моделей однофакторной логистической регрессии с СНсФВ были значимо ассоциированы фактор КНТЖ < 29,2%, уровень Hb, фактор СРБ > 3,0 мг/мл, фактор ожирения. Результаты однофакторного анализа приведены в таблице 6.
При построении многофакторной модели логистической регрессии установлено, что только фактор снижения показателя КНТЖ менее 29,2% статистически значимо влиял на СНсФВ: ОШ (95% ДИ) 5,029 (1,575– 16,055) ( р = 0,006) – при снижении КНТЖ менее 29,2 статистически значимо увеличивались шансы иметь СНсФВ.
Таблица 6. Результаты однофакторной логистической регрессии
Table 6. Logistic regression results
|
Потенциальные предикторы |
Однофакторный анализ ОШ (95% ДИ) |
р |
|
Фактор: КНТЖ < или ≥ 29,2% |
5,400 (1,775–16,428) |
0,003 |
|
Hb |
0,961 (0,926–0,997) |
0,035 |
|
Креатинин |
0,965 (0,932–1,000) |
0,051 |
|
Фактор: СРБ < или ≥ 3,0 мг/мл |
4,333 (1,076–17,459) |
0,039 |
|
Фактор: ожирение есть/нет |
3,250 (1,077–9,803) |
0,036 |
Примечание: КНТЖ – коэффициент насыщения трансферрина железом; Hb – гемоглобин; СРБ – С-реактивный белок.
Обсуждение
Существует консенсус в отношении СНсФВ в качестве системного воспалительного заболевания, запускаемого кумулятивной экспрессией различных факторов риска и сопутствующих заболеваний, среди которых признаны возраст, женский пол, почечная недостаточность, СД, АГ, ожирение, ухудшение физической формы [2]. В Российской Федерации АГ в 90% случаев является причиной СН, способствуя структурно-функциональной перестройке миокарда с формированием гипертрофии ЛЖ, а также определяя развитие феномена микрососудистого воспаления, лежащего в основе патогенеза СНсФВ. До половины больных с СНсФВ страдают ожирением и СД вследствие нарушения метаболических процессов с возникновением инсулинорезистентности, ответственных за системное воспалительное состояние, приводящее к концентрическому ремоделированию сердца [9].
Согласно ранее проведенным исследованиям, сопутствующие СНсФВ заболевания коррелируют с повышением уровня циркулирующего СРБ [10]. Все больные, включенные в наше исследование, страдали АГ, наличием которой можно объяснить признаки гипертрофии миокарда в обеих группах. Отмеченные в 1-й группе тенденции к большему ИМТ, частоте ожирения, ассоциированные с большей частотой превышения СРБ 3,0 мг/мл, подтверждают воспалительную парадигму заболевания.
Наличие повышенных уровней НУП способствует выявлению СН. Европейский диагностический алгоритм HFA-PEFF (Heart Failure Association – heart failure with preserved ejection fraction) в качестве основных критериев диагностики стабильной СНсФВ предлагает NT-proBNP > 220 пг/мл, включая его в основные критерии [3]. В Американских национальных рекомендациях для верификации СНсФВ пороговые значения NT-proBNP составляют ≥ 360 пг/мл. Алгоритм H2PEFF не включает НУП в число оцениваемых параметров, но NT-proBNP > 450 пг/мл является высокоспецифичным для СНсФВ. Согласно Российским клиническим рекомендациям, диагностический уровень NT-proBNP составляет при синусовом ритме > 125 пг/мл и > 365 пг/мл при фибрилляции предсердий. Установлено, что около 25–30% больных с СНсФВ имеют дефицит НУП вследствие избыточного веса и ожирения. В исследовании T. Ha Man и соавт. (2023) была выявлена обратная связь между ИМТ и log NT-proBNP (r = –0,29; p < 0,001): каждое увеличение стандартного отклонения ИМТ на 4 кг/м2 было связано с 7%-м снижением NT-proBNP [11]. При СНсФВ отмечена связь уровня NT-proBNP c возрастом и полом. У женщин с СНсФВ уровни NT-proBNP были выше, чем у мужчин, что, вероятно, об- условлено стимулирующим действием женских половых гормонов на экспрессию генов НУП [12].
В нашей работе в обеих группах уровни NT-proBNP были выше референтных значений, а в 1-й группе > 220 пг/мл и значимо выше, чем во 2-й группе, что, вероятно, связано с возрастом больных старше 60 лет. Необходимо отметить, что мы не выявили различий уровней NT-proBNP между мужчинами и женщинами в исследуемых группах. Частота уровня NT-proBNP > 125 пг/мл в 1-й группе составила 85,3% vs 61,5% во 2-й группе ( р = 0,055), а частота > 220 пг/мл – 70,6% vs 38,5% ( р = 0,019). Уровень NT-proBNP > 360 пг/мл выявлен только у 14 (41,2%) больных 1-й группы. В недавнем исследовании установлено, что пациенты с СНсФВ даже с нормальным уровнем НУП имеют в 2,7 раза более высокий риск смертности или повторной госпитализации по поводу СН в сравнении с контрольной группой [13]. В нашем исследовании лишь 14,7% больных с СНсФВ имели уровень NT-proBNP менее 125 пг/мл.
Уровни НУП следует интерпретировать с учетом функции почек. Почечная дисфункция при СНсФВ является результатом повышения центрального венозного давления вследствие системного застоя, легочной гипертензии и дисфункции правого желудочка. Почечная перфузия нарушается из-за вазодилатации, фиксированного ударного объема и хронотропной недостаточности, которая встречается у 30–50% больных с СНсФВ. Почечная дисфункция может стать причиной СНсФВ, вызывая метаболические и системные нарушения в циркулирующих факторах, активированное системное воспалительное состояние и дисфункцию эндотелия, что может привести к уплотнению, гипертрофии и интерстициальному фиброзу кардиомиоцитов. Несмотря на отсутствие значимых различий показателей почечной функции между исследуемыми нами группами, снижение клиренса НУП в почках могло способствовать большему среднему уровню NT-proBNР в группе больных с СНсФВ.
ДЖ у больных с СН независимо от ФВЛЖ определяется в качестве потенциального модифицируемого фактора, влияющего на функциональный статус и качество жизни. Распространенность ДЖ выше у больных с СНсФВ, что, вероятно, обусловлено высокой частотой ко-морбидных заболеваний. X. Wang и соавт. (2022) выявили ДЖ у 57,5% больных с СНсФВ, у 47,4% с СН с умеренно сниженной и у 44,3% с низкой ФВЛЖ ( р < 0,001) [14]. В метаанализе A.L. Beale и соавт. (2019) с включением 15 исследований (1877 больных) частота ДЖ при СНсФВ составила 59% [5].
В нашей работе встречаемость ДЖ в 1 группе была 43,9% при отсутствии значимых различий между группами. Возможной причиной довольно высокой частоты ДЖ (34,3%) во 2-й группе могло быть изменение функции почек, часто осложняющее течение АГ, о чем свидетельствует тенденция к более высокому уровню креатинина ( р = 0,053).
В научной литературе активно обсуждаются критерии диагностики ДЖ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ДЖ как ферритин < 15 мкг/л при сердечно-сосудистых заболеваниях или < 70 мкг/л при воспалительных заболеваниях, но многие лаборатории определяют его как ферритин < 30 мкг/л. ВОЗ уделяет меньше внимания КНТЖ, однако предполагает, что его уровень < 16% указывает на ДЖ. В действующих Российских, Американских и Европейских клинических реко- мендациях по СН, а также в большинстве исследований критериями ДЖ является уровень ферритина < 100 мкг/л или его уровень 100–299 мкг/л в сочетании с КНТЖ < 20%. Эти критерии ДЖ адаптированы из рекомендаций для терминальной стадии заболевания почек [15], что, по мнению некоторых исследователей, является неправильным, и в настоящее время не существует общепринятого определения ДЖ [16].
Полагают, что лучшими маркерами ДЖ могут быть концентрация Fe или растворимых рецепторов трансферрина в сыворотке крови, но они не использовались в рандомизированных исследованиях. На основании анализа образцов биопсии костного мозга высказывается мнение, что концентрация ферритина уступает КНТЖ в качестве маркера запасов Fe [17]. Имеются сведения о различной прогностической значимости этих показателей. В исследовании IRONMAN уровень ферритина < 30 мкг/л был ассоциирован с женским полом, II ФК (NYHA), низкой концентрацией NT-proBNP, более редким назначением петлевых диуретиков, более высокой рСКФ и благоприятным прогнозом.
Исследователи рассуждают о парадоксе, при котором уровень ферритина < 30 мкг/л связан с хорошим прогнозом, а низкий показатель КНТЖ – с худшим. Пациенты с ферритином ≥ 100 мкг/л и КНТЖ < 20% имели худший прогноз, чем пациенты с ферритином < 100 мкг/л, что подтверждает большую прогностическую значимость КНТЖ [18].
Возможным объяснением данного парадокса является двойственная природа ферритина – депо Fe и острофазовый показатель воспаления. Полагают, что низкий уровень ферритина отражает лучшее здоровье клеток и целостность мембран из-за отсутствия воспаления, тогда как низкий КНТЖ указывает на низкую доступность Fe. В исследовании F.J. Graham и соавт. (2023) у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выявлена сильная U -образная связь между КНТЖ, Fe и прогнозом, при этом надир риска лежит между 30 и 39% КНТЖ, а также уровнем Fe в диапазоне 17–30 мкмоль/л, в то время как низкий ферритин был связан с лучшим прогнозом [19]. Выявленная нами новая точка КНТЖ, равная 29,2%, близка к надиру риска, а уровень Fe в группе больных с СНсФВ составляет менее 17 мкмоль/л. Полагают, что метаболизм Fe более важен в развитии СН с низкой ФВ [2]. Однако полученные нами результаты многофакторного анализа свидетельствуют о связи статуса Fe с СНсФВ: при снижении КНТЖ менее 29,2% в 5 раз увеличивается шанс наличия СНсФВ.
Взаимосвязь между ДЖ и СНсФВ сложна и не до конца изучена. С одной стороны, ДЖ ухудшает прогноз и участвует в ремоделировании миокарда, способствуя развитию СНсФВ. С другой стороны, изменяющиеся с возрастом функциональные возможности организма при возникновении СНсФВ могут способствовать развитию ДЖ. При отсутствии различий уровня ферритина, сывороточного Fe в группах именно КНТЖ был значимо меньшим при СНсФВ, что подчеркивает важность статуса Fe в ее генезе.
Довольно противоречивы единичные данные литературы о связи ДЖ с показателями ДФ. В исследовании M. Kasner и соавт. (2013) таких связей не выявлено [6]. Однако в работе A.B. Gevaert и соавт. (2021) эта связь была отмечена [7]. B.C. Elçioğlu и соавт. (2022) установили связь ДЖ с GLS у женщин [8]. При наличии корреляций показателей статуса Fe с параметрами ДФ мы не выявили связи с параметрами стрейна – GLS и LASr, что, возможно, предполагает участие других механизмов в изменении миокардиальной деформации. Нельзя исключить, что этот вопрос необходимо исследовать в гендерном аспекте.
Частой характеристикой СНсФВ является непереносимость ФН, сопровождаемая хронотропной некомпетентностью, механизмы которой не до конца ясны. Обсуждают десенситизацию β-адренорецепторов вследствие гиперсимпатикотонии, глобальное ремоделирование легочных сосудов, повышение давления заклинивания в легочных капиллярах, а также часто выявляемую (в 51% случае) с использованием 123I-MIBG нижне-заднюю дезинервацию миокарда [20]. В нашей работе в 1-й группе при ДСТ были отмечены меньшие максимальная нагрузка и ЧСС, ассоциированные со значимо меньшими значениями КНТЖ. Выявленные связи показателей статуса Fe с параметрами ДФ, максимальной нагрузкой при ДСТ обусловлены фундаментальной ролью Fe в важных физиологических процессах, включающих транспорт кислорода, энергетический обмен и общую сердечно-сосудистую функцию.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте встречаемости ДЖ вне зависимости от наличия СНсФВ, что определяет необходимость скринингового исследования статуса Fe с целью его своевременной коррекции и профилактики развития СНсФВ у больных старше 60 лет. Выявлена новая точка отсечения КНТЖ менее 29,2%, ассоциированная с СНсФВ, которая в 5 раз увеличивает шанс иметь одновременно СНсФВ. Установлены связи Fe и КНТЖ с максимальной нагрузкой, параметрами ДФ, но не с показателями миокардиальной деформации (LASr, GLS), что предполагает участие других механизмов в изменении миокардиальной деформации. Показатель деформации резервуарной фазы ЛП (LASr) может быть использован для диагностики СНсФВ, учитывая его высоко значимо меньшие значения в группе больных с СНсФВ. Более высокая частота встречаемости СРБ > 3,0 мг/мл при СНсФВ подтверждает провоспали-тельный статус заболевания.
Список литературы Дефицит железа и диастолическая функция при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
- Savarese G., Becher P.M., Lund L.H., Seferovic P., Rosano G.M.C., Coats A.J.S. Global burden of heart failure: A comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovasc. Res. 2023;118:3272-3287. https://doi.org/10.1093/cvr/cvac013.
- Eidizadeh A., Schnelle M., Leha A., Edelmann F., Nolte K., Werhahn S.M. et al. Biomarker profiles in heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction: results from the DIAST-CHF study. ESC Heart Failure. 2023;10:200-210. https://doi.org/10.1002/ehf2.14167.
- Pieske B., Tschöpe C., de Boer R.A., Fraser A.G., Anker S.D., Donal E. et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFAPEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2019;40(40):3297-3317. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz641.
- Широков Н.Е., Ярославская Е.И., Криночкин Д.В., Мусихина Н.А., Гизатулина Т.П., Енина Т.Н., и др. Принципы диагностики сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Российский кардиологический журнал. 2023;28(3S):5448. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5448.
- Beale A.L., Warren J.L., Roberts N., Meyer P., Townsend N.P., Kaye D. Iron deficiency in heart failure with preserved ejection fraction: a systematic review and meta-analysis. Open Heart. 2019;6(1):e001012. https://doi.org/10.1136/openhrt-2019-001012.
- Kasner M., Aleksandrov A.S., Westermann D., Lassner D., Gross M., von Haehling S. et al. Functional iron deficiency and diastolic function in heart failure with preserved ejection fraction. Int. J. Cardiol. 2013;168(5):4652-4657. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.07.185.
- Gevaert A.B., Mueller S., Winzer E.B., Duvinage A., Van de Heyning C.M., Pieske-Kraigher E.; OptimEx-Clin Study Group. Iron deficiency impacts diastolic function, aerobic exercise capacity, and patient phenotyping in heart failure with preserved ejection fraction: A subanalysis of the optimex-clin study. Front. Physiol. 2022;12:757268. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.757268.
- Elçioğlu B.C., Onur Baydar O., Kılıç A., Tefik N., Helvacı F., Gürsoy E. et al. Effects of iron deficiency on left ventricular functions in young women regardless of anemia: A speckle tracking echocardiography study. Turk. J. Med. Sci. 2022;52(3):754-761. https://doi.org/10.55730/1300-0144.5370.15.
- Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Артемьева Е.Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. https://doi.org/10.18087/cardio.2021.4.n1628.
- DuBrock H.M., AbouEzzeddine O.F., Redfield M.M. High-sensitivity C-reactive protein in heart failure with preserved ejection fraction. PLoS One. 2018;13(8):e0201836. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201836.
- Ha Manh T., Do Anh D., Le Viet T. Effect of body mass index on N-terminal pro-brain natriuretic peptide values in patients with heart failure. Egypt Heart J. 2023;75(1):75. https://doi.org/10.1186/s43044-023-00401-1.
- Wang T.J., Larson M.G., Levy D., Leip E.P., Benjamin E.J., Wilson P.W. et al. Impact of age and sex on plasma natriuretic peptide levels in healthy adults. Am. J. Cardiol. 2002;90(3):254-258. https://doi.org/10.1016/s0002-9149(02)02464-5.
- Verbrugge F.H., Omote K., Reddy Y.N.V., Sorimachi H., Obokata M., Borlaug B.A. Heart failure with preserved ejection fraction in patients with normal natriuretic peptide levels is associated with increased morbidity and mortality. Eur. Heart J. 2022;43(20):1941-1951. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab911.
- Wang X., Wang X., Gong Y., Chen X., Zhong D., Zhu J. et al. Appraising the Causal Association between systemic iron status and heart failure risk: A Mendelian Randomisation Study. Nutrients. 2022;14(16):3258. https://doi.org/10.3390/nu14163258.
- Mikhail A., Brown C., Williams J.A., Mathrani V., Shrivastava R., Evans J. et al. Renal association clinical practice guideline on Anaemia of Chronic Kidney Disease. BMC Nephrol. 2017;18(1):345. https://doi.org/10.1186/s12882-017-0688-1.
- Cleland J.G.F. Defining iron deficiency in patients with heart failure. Nat. Rev. Cardiol. 2024;21(1):1-2. https://doi.org/10.1038/s41569-023-00951-6.
- Savarese G., von Haehling S., Butler J., Cleland J.G.F., Ponikowski P., Anker S.D. Iron deficiency and cardiovascular disease. Eur. Heart J. 2023;44(1):14-27. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac569.
- Cleland J.G.F., Kalra P.A., Pellicori P., Graham F.J., Foley P.W.X., Squire I.B. et al. IRONMAN Study Group. Intravenous iron for heart failure, iron deficiency definitions, and clinical response: the IRONMAN trial. Eur. Heart J. 2024:ehae086. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae086.
- Graham F.J., Friday J.M., Pellicori P., Greenlaw N., Cleland J.G. Assessment of haemoglobin and serum markers of iron deficiency in people with cardiovascular disease. Heart. 2023;109(17):1294-1301. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-322145.
- Seo M., Yamada T., Tamaki S., Watanabe T., Morita T., Furukawa Y. et al. Prognostic significance of cardiac 123I-MIBG SPECT imaging in heart failure patients with preserved ejection fraction. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;15(4):655-668. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.08.003.