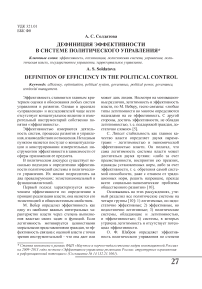Дефиниция эффективности в системе политического управления
Автор: Солдатова Анна Сергеевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются подходы к определению эффективности в системе государственного управления и политических процессах. Представлены методики, накопленные к настоящему времени мировой практикой, и исследовательские шкалы измерения. Автором предпринята попытка определить измерители эффективности территориального управления.
Эффективность, оптимизация, политическая система, управление, политическая власть, государственное управление, территориальное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/14720859
IDR: 14720859 | УДК: 321.01
Текст научной статьи Дефиниция эффективности в системе политического управления
Эффективность становится главным критерием оценки и обоснования любых систем управления и развития. Однако в арсенале «управленцев» и исследователей чаще всего отсутствует концептуальное видение и измерительный инструментарий собственно понятия «эффективность».
Эффективностью измеряются деятельность систем, процессы развития и управления, взаимодействия и отношения. Исходным пунктом является постулат о концептуализации и конструировании измерительных инструментов эффективности в зависимости от сферы приложения ее предмета.
В политическом дискурсе существует несколько подходов к определению эффективности политической системы и политического управления. Их можно подразделить на два превалирующих: экзистенциональный и функционалистский.
Первый подход характеризуется включением эффективности по определению в принцип реализации власти, она является его экзистенцией и общесистемным свойством.
М. Вебер определил эффективность как одну из наиболее важных интегральных характеристик власти через степень выполнения властью своих задач и функций. Если легитимность мотивируется ценностными моральными представлениями граждан, то эффективность связана с оценкой власти с точки зрения инструментальной – что она дает или может дать людям. Несмотря на мотивационные различия, легитимность и эффективность власти, по М. Веберу, тесно связаны: «любые типы легитимности во многом определяются надеждами на ее эффективность. С другой стороны, достичь эффективности, не обладая легитимностью, т. е. поддержкой граждан, достаточно сложно» [5].
С. Липсет стабильность как главное качество власти определяет двумя параметрами – легитимностью и экономической эффективностью власти. Он полагал, что сама легитимность системы власти может достигаться двумя путями: «либо за счет преемственности, восприятия ею прежних, однажды установленных норм, либо за счет эффективности, т. е. обретения самой системой способности, даже с отказом от традиционных норм, решить назревшие, прежде всего социально-экономические проблемы общественного развития» [10].
Основываясь на этих рассуждениях, ученый разделил все политические системы на четыре группы [10]: 1) легитимные, но недостаточно эффективные; 2) эффективные, но недостаточно легитимные; 3) политические системы, обладающие и легитимностью, и эффективностью; 4) системы, в которых утрачена легитимность и отсутствует потенциал эффективности.
О. Ф. Шабров определяет эффективность политического управления по степени реализации системного качества и функции предназначения и по достижению целей политических элит. В политической системе «функцией предназначения и системным качеством управления является поддержание гомеостазиса, адаптация и развитие самоуправляемой самоорганизующейся системы общества» [16]. Эффективность по предназначению оценивается с точки зрения сохранения и развития общества и измеряется его поддержкой. Эффективность целедостижения меряется степенью достижения поставленной цели. Эффективность политического управления, оцениваемая степенью реализации им своего системного качества, меряется степенью соответствия происходящих в обществе изменений вектору политического развития. В свою очередь, «развитие общественных систем можно рассматривать как процесс расширения поля идентичности человека и меряться степенью его самореализации» [16].
Эффективность, таким образом, являет собой как бы механизм «качества» осуществления власти и управления, который позволяет политической власти поддерживать определенное состояние, элементы которой определяются через совокупность таких системных качеств:
– устойчивость системы, т. е. возможность поддерживать намеченный режим функционирования. Масштабы и структура потенциала системы изменяются под воздействием негативных ситуаций. В качестве одного из вариантов подхода к оценке устойчивости функционирования систем предлагается рассматривать вынужденные адаптационные изменения ее, например социально-экономического потенциала;
– адаптационные возможности, которые определяются суммарными функциональными резервами системы, в том числе управленческими;
– обратная связь как свойство, не просто позволяющее, принуждающее субъект управления корректировать свои действия. Важнейшим здесь является то, насколько осмысленно и в чьих интересах реагирует объект;
– реагирование объекта управления, готовность к подчинению. Данное свойство не менее важно, чем способность управлять и наличие сильного субъекта властвования;
– гибкость как наличие пределов изменения и способность адаптироваться к изменениям внешней среды с сохранением своих свойств и функций. Согласно современным представлениям, такая способность формируется не столько подавлением отклонений состояния организации, сколько возможностью его изменения в некотором диапазоне;
– количественная и качественная определенность, т. е. возможность принимать управленческое решение, воздействуя на объект управления, которое предусматривает достижение определенных результатов, выраженных в количественных и качественных показателях;
– возможности регулирования, которые включают дополнительные свойства настройки системы управления: сигнализации, самодиагностики, программирования, дистанционного управления;
– необходимая сложность, т. е. наличие свойств, параметров, структур и функциональных связей, с помощью которых возможно адекватное управление;
– развитие/стагнация – наличие или отсутствие свойства увеличения необходимой сложности системы и улучшения приспособленности к внешним условиям;
– самоорганизация и самоуправляемость. Под самоорганизацией подразумевается эмерджентное возникновение, сохранение своей целостности и развитие за счет собственных потенций. Самоуправление – состояние, при котором целеполагание осуществляется самим объектом сообразно своим свойствам, не происходит непосредственного контроля субъекта над объектом;
– потенциал элементов в общей системе, их «запасные» средства. В общем смысле его можно рассматривать как наличие совокупности перечисленных выше свойств и возможности их применения в управленческом процессе.
В рамках этого подхода стоит отметить «режимную» эффективность. Эффективность в данном случае можно определять через «повестку дня» – набор целей и программ, которая «отражает коалиционный характер власти и ресурсы ее субъектов» [9], характерную для того или иного политического режима. Повестка дня символизирует «определенное согласие по фундаментальным ценностям чле- нов коалиции власти… и акторов из разных секторов общества» [9]. Тогда как эффективность будет равна взаимосвязи потенциалов различных групп при их лояльности задекларированному целеполаганию.
Стоун также увязывает эффективность со способностью власти мобилизовать государственные и негосударственные ресурсы для достижения общезначимых целей [20, р. 44].
Например, как отмечала Б. Геддес, «конвергенция между целями авторитарного режима и интересами лояльных акторов происходит посредством распределения власти, статусов таким образом, чтобы добиться от них наиболее эффективного достижения целей режима» [17]. К таким стимулам она относит «возможности вертикальной мобильности внутри организации… границы между организацией и остальным обществом, которые уменьшают возможности сближения с группами, соревнующимися в выражении служебной лояльности» [17].
Это, в частности, может говорить о том, что управленческая эффективность может быть однобоким процессом, реализующим цели тех, кто, по сути, их задает, а «решение других проблем оказывается весьма затруднительным в силу того, что они фактически не включаются в «повестку дня» [8, с. 34].
Обобщая, критериями эффективности власти в рамках выделенного подхода можно назвать веберовские «качества власти» [4]:
– достаточность оснований власти и эффективное использование ее ресурсов;
– рациональность «вертикальной» и «горизонтальной» структур власти;
– эффективный, действенный, своевременный контроль за выполнением распоряжений властных структур;
– организационно-техническое и кадровое обеспечение учета и анализа властных распоряжений;
– наличие действенной системы санкций, применяемых к объекту власти в случае невыполнения им властного приказа;
– эффективная система самоконтроля власти, одним из показателей которой является ее авторитет.
В целом для подхода характерна встро-енность понятия «эффективность» в набор характерных для политической системы и управления свойств, функции предназначе- ния и, как следствие, отсутствие разделения на качество формулирования политического курса и качество его реализации.
Если представлять эффективность как несущую основу управленческой системы и политических режимов, направленных на удовлетворение потребностей общественных групп, то при деформации системы их учета следует ставить вопрос о том, через удовлетворение каких и чьих потребностей она определяется.
Детализированные характеристики и измерители эффективности разрабатываются авторами в рамках функционалистского подхода. Понятие рассматривается в общем смысле как измерительный инструмент в функционирующей политической системе, в ее различных аспектах. В первую очередь, анализируется ресурсная база для целеполагания. Ключом анализа становятся вопросы: 1) что измерять? 2) как измерять?
Следует разграничить пространства измерения. Можно в данном случае воспользоваться определением коннотаций управления П. В. Панова: «если деятельность сводится к администрированию, то она не является политической» [12, с. 149]. Соответственно ими могут являться собственно государственное управление, включающее иерархичную структуру соподчинения и жестко регламентированные правила поведения, и явление более широкое, но менее определяемое – политическое управление. Оно представляет собой более сложную систему, в которой наряду с государственными структурами управления оказывают большое значение негосударственные акторы и их взаимодействия.
Мировой опыт к настоящему времени накопил достаточное количество подходов, методик к оценке эффективности государственного, а также регионального управления. Ими могут являться:
– индекс физического качества жизни. Был предложен Исследовательским Институтом Социального Развития ООН;
– индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit. Данный показатель сочетает в себе как объективные данные, получаемые от статистических агентств, так и результаты опросов населения на предмет отношения к различным жизненным явлениям;
– истинный показатель прогресса. Прежде всего это концепция в «зеленой экономике» и экономике благосостояния, предлагаемая на замену ВВП как измерение экономического роста;
– измерение наделенности полномочиям по полам. Индекс основывается на показателях политического участия, экономического участия и статистики денежных доходов;
– индекс восприятия коррупции организации Transparency International. Индекс восприятия коррупции представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень) до 10 баллов (отсутствие коррупции), пользуется результатами нескольких независимых опросов, в которых принимают участие международные финансовые эксперты, правозащитники [7].
Интересным, на наш взгляд, является комплексный показатель государственного управления, разработанный аналитиками Всемирного банка. Он включает в себя шесть критериев [18]:
-
– право голоса и подотчетность властных структур;
-
– политическая стабильность и отсутствие насилия;
-
– эффективность деятельности правительства;
-
– качество законодательства;
-
– верховенство закона;
-
– восприятие коррупции в обществе.
В то же время основным недостатком данной методики И. Н. Барциц называет субъективность оценок, основанных на индивидуальном восприятии различных показателей. К тому же они предназначены для межстрановых сравнений и не походят для отслеживания тех или иных показателей внутри страны на региональном уровне [3].
Кроме представленных, получили распространение и другие методики и оценки эффективности деятельности национальных систем в различных плоскостях и сферах.
Исследовательская проблематика фокусируется на интегральных показателях эффективности реформ государственного управления. Реформирование государственной властной системы является функциональным основанием управленческого процесса. Такое временное состояние называется транзитологическим. Интерес оно представляет тем, что главной целью реформирования являет- ся совершенствование и оптимизация, т. е. в общем смысле повышение эффективности, одновременно, с другой стороны, существует возможность измерять реформы как отдельный эффективный/контрпродуктивный процесс. При этом используется своя система определения эффективности.
При рассмотрении широты и направленности целей и программ административных реформ Н. Мэннингом и Н. Парисоном выделены следующие шесть заголовков для краткой характеристики стоящих перед реформаторами проблем и средств повышения эффективности [12, с. 41]:
-
– сокращение государственных расходов;
-
– повышение способностей к развитию и реализации политики;
-
– улучшение выполнения государством функций работодателя;
-
– повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к власти со стороны населения и частного сектора;
-
– решение проблемы предполагаемой коррупции и недостаточного уважения к власти со стороны населения;
-
– повышение эффективности деятельности и уровня услуг.
Отдельного рассмотрения заслуживает проблема противоречия задач государственного обновления и структурными факторами их ограничения на «низовых» уровнях управления. Ее разрешению также соответствует широкий спектр реформистских практик.
Касаемо реформы как отдельного процесса весьма справедливым можно считать оценку А. П. Цыганова о том, что «эффективным может считаться только такой управленческий транзитологический процесс, в ходе которого преобразования системы государственного управления, средств, способов, методов осуществления политической власти привели к снижению кризисных проявлений во всех сферах общественной жизни [15].
Дизайн системы оценки эффективности политического управления зависим от измерительного предмета. Различные авторы предлагают измерять:
-
– институциональную составляющую;
-
– системы действий и взаимодействий политических акторов (государственных и негосударственных);
-
– управленческий функционал;
-
– качество сервиса государства «заказчик – потребитель»;
-
– политическое участие, состояние и степень активности гражданского общества;
– качество жизни, «самочувствия» и другие показатели социально-экономического развития как результат реализации политического курса и пр.
Например, Д. Кауфман и другие авторы подразделяют эффективность как «качество предоставляемых государством услуг» на следующие элементы [19]:
– процесс избрания, контроля и смещения правительств;
– способность правительства эффективно формулировать и реализовывать адекватную политику;
– уважение со стороны общества и государства к институтам, которые управляют их взаимодействиями.
Тогда как, исходя из анализа эффективности деятельности политической элиты по различным аспектам, А. В. Гаева делает вывод о том, что эффективность деятельности политической элиты – это сохранение ею данных политической системы, обеспечение ее целостности, единства и безопасности, а также защита интересов всех групп населения, прав и свобод граждан [6, с. 205].
Центральные измерители эффективности деятельности политической элиты в управленческом аспекте выделяются Ю. А. Андреевой [1, с. 23]:
– наличие трех независимых друг от друга ветвей власти, существующих на основе сдержек и противовесов;
– наличие общественного контроля их деятельности;
– способность населения донести свои пожелания до представителей политической элиты и со стороны представителей элиты – учет этих пожеланий в региональной политической деятельности.
Представить целостную конструкцию политической эффективности достаточно сложно, так же как и найти общие измерительные инструменты для множества ее аспектов. А. С. Ахременко выстраивает концептуальную схему измерения, состоящую из трех групп измерителей [2]:
– соответствие полученных результатов поставленным целям;
– соответствие характеристик деятельности организации установленным формальным нормативам;
– отношение полученных результатов и затраченных ресурсов (ключевые понятия: вход, выход, центр принятия решений).
Целесообразно развести технические и социальные эффекты и строить параметры оценки «качества» соответственно.
Таким образом, инструментами измерения могут являться числовые и статистические данные и показатели «качества» по первому блоку, социологические опросы, прикладные исследования – по второму. При этом технические эффекты являются более измеряемыми и валидными, но менее показательными с точки зрения «самочувствия» потребителей эффектов. С другой стороны, социальный эффект проявляется через свойство обратной связи, т. е. поэтому для них характерны запаздывания во временной перспективе.
Эффективность территориального управления определяется через собственную систему суждений-определителей и измерительных инструментов. Под территориальным управлением авторами понимается система с позиции поливариантности властных структур, многообразия правовых, государственных, институциональных управленческих форм, асимметричности и разнопорядковости связей, чье целеполагание и деятельность направлены на модифицирование качественных и количественных свойств объекта(ов) (регионов) управления или системы в целом.
Учитывая это, измерители можно разделить на несколько составляющих. Авторами предлагаются следующие блоки [13; 14]:
– целеполагательные измерители. Исходя из постулата о том, что управление в первую очередь – это целенаправленное воздействие, главным измерителем в управленческой системе является сопоставление траектории объекта управления от положения выполнения цели. Это самая простая система измерения, где как негативные, так и положительные сопутствующие и побочные эффекты нейтрализуются при достижении общей цели управленческого воздействия;
– контекстные измерители. Они характеризуются причиной отклонения от заданной цели управления при условии, что достигнутые по- ложительные эффекты гораздо выше в новых условиях и не наступили негативные последствия. Причинами могут выступать недооценка ресурсов и потенциалов, неопределенность реализации целевых функций и установок и др.;
– системно-управленческие измерители. Сюда можно отнести проявления качественной специфики управленческих воздействий и поддержание системных качеств как результата направленной деятельности субъекта управления. Для территориального управления это могут быть: сохранение целостности государства; устойчивость системы политико-территориального устройства; внеконфликтное сочетание центральных и региональных интересов и пр.;
– оценка «потребителей» как общественный измеритель. Эффективность может измеряться результатами выборов (поддержка или ее отсутствие), экспертными и социологическими опросами, через объем потока обращений граждан с жалобами и предложениями в специализированные органы и службы, мониторинг общественного мнения, гражданских инициатив и активности в информационном пространстве и др.;
– программно-экспертные или технические измерители. Таким показателем может являться преобразование затраченных ресурсов в технические выходы. Формирование технических измерителей становится базовым элементом государственного и регионального планирования и прогнозирования и находит свое отражение в официальных прогнозах социально-экономического развития государства и регионов. Поддающимися измерениям являются увеличение ВРП региона и снижение дотационности бюджета, процентный рост среднего класса, темпы развития малого и среднего бизнеса, количество реализации крупнейших инвестиционных проектов и прочие экономические и социальные эффекты, выраженные в количественном эквиваленте. Более сложно оценить комплексное развитие территории. Для такого эффекта характерны запаздывания во временной пер- спективе и сложная схема перевода в количественные показатели, оценки и экспертизы;
– нормативно-правовые измерители. Измеритель эффективности – правовая база как нужный элемент регулирования многих вопросов организации и деятельности в системе управления регионами. Вопросы необходимых положительных эффектов или, наоборот, недочетов в законодательном регулировании могут определяться через такие критерии как: обеспеченность ресурсами, соответствие правовым потенциалам регионального пространства; отсутствие дефектности законодательных актов; качество законодательных актов и пр.;
– референтные измерители. Предметом компарирования могут являться как отдельные элементы и технологии в реализации регионального управления, так и общие свойства функционирования системы в целом. Измерителем эффективности в этом случае являются количественные и качественные показатели, которые традиционно выступают результативностью и поддаются оценке ее входов и выходов.
Стоит сказать о проблематичности общесистемной оптимальности управленческих решений и синхронности развития в многорегиональной системе, которая характеризуется относительной степенью дифференциации и многообразия. Этим фактом определяется сложность оценки общей эффективности территориального управления.
В разработанной системе суждений-определителей представляется интересным проанализировать и оценить региональные управленческие практики России. На государственном уровне с этим связано требование встраивания системы измерительных инструментов эффективности во властноуправленческие взаимодействия, необходимой для отслеживания и оценивания в динамике процессов качественных, количественных и структурных изменений, основных трендов и проблем, траекторий развития, регионального реформационного потенциала.
Список литературы Дефиниция эффективности в системе политического управления
- Андреева Ю. А. Эффективность управления российским государством: грани возможного/Ю. А. Андреева//Чиновник. -2007. -№ 1. -С. 22-25
- Ахременко А. С. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг: теоретическая модель и методика измерения/А. С. Ахременко//Полис. -2012. -№ 1. -С. 113-135
- Барциц И. Н. Показатели эффективности государственного управления: субъективный взгляд на международные стандарты/И. Н. Барциц//Представительная власть -XXI век. -2008. -№ 2-3 . -Режим доступа: http://pvlast.ru/archive/index.449.php. -Загл. с экрана
- Вебер М. Политические работы (1895-1919)/М. Вебер. -М.: Праксис, 2003. -424 с
- Вебер М. Харизматическое господство/М. Вебер//Социол. исследования. -1988. -№ 5 . -Режим доступа: http://politnauka.org/library/classic/veber-hg.php. -Загл. с экрана
- Гаева А. В. Эффективность как характеристика деятельности современной политической элиты/А. В. Гаева//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. -Сер. 7, Филос. -2009. -№ 1 (9). -С. 203-207
- Ермолаев Д. В. Эффективность управления регионом: российская практика и мировой опыт/Д. В. Ермолаев//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2013. -№ 5. -Режим доступа: http://www.online-science.ru/m/products/politicks-nauki/gid704/pg0/. -Загл. с экрана
- Ледяев В. Г. Городские политические режимы: теория и опыт эмпирического исследования/В. Г. Ледяев//Политическая наука. -2008. -№ 3. -С. 32-60
- Ледяев В. Г. Изучение власти в городских сообществах: основные этапы и модели исследования/В. Г. Ледяев//Неприкосновенный запас. -2010. -№ 2 . -Режим доступа: http://polit.ru/article/2010/06/28/ledyaev/-Загл. с экрана
- Липсет С. М. Размышления о легитимности/С. М. Липсет//Апология. -2005. -№ 5 . -Режим доступа: http://www.journal!apologia.ru/rnews.html=81 -Загл. с экрана
- Мэннинг Н. Реформы государственного управления: международный опыт/Н. Мэннинг, Н. Парисон. -СПб., 2003. -496 с
- Панов П. В. Новые правила формирования региональных органов власти в контексте трансформации отношений «Центр -регионы»/П. В. Панов//Федерализм и российские регионы. -М., 2006. -С. 147-176
- Солдатова А. С. Эффективность управления регионами России: концептуализация и измерение практик/А. С. Солдатова//Ars Administrandi. -2012. -№ 4. -С. 5-14
- Солдатова А. С. Фактор пространственных изменений в сценариях социально-экономического развития россии инновационной направленности/А. С. Солдатова//Экономическая история. -2011. № 3. С. 65-72
- Цыганов А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика/А. П. Цыганов. -М.: 2000. . -Режим доступа: http://www.mgtub.ru/dir/cat26/subj525/file450.html -Загл. с экрана
- Шабров О. В. Разнообразие как фактор эффективности государственного управления/О. В. Шабров//Успехи современного естествознания. -2004. -№ 5 . -Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/raznoobr2.htm -Загл. с экрана
- Geddes B. Paradigms and sand castles: theory building and research design in comparative politics (analytical perspectives on politics) /B. Geddes. -Режим доступа: http://bookfi.org/dl/1311997/e90715 -Загл. с экрана
- Global monitoring report -2006. . -Режим доступа: http://www.unesco.org/new/en/education/themes -Загл. с экрана
- Kaufmann D. Challenges in the next stage of anti-corruption /D. Kaufmann.-Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/38736 -Загл. с экрана
- Stone C. Regime politics: Governing Atlanta, 1946-1988/С. Stone. -Lawrence. KS: University Press of Kansas, 1989. -P. 305