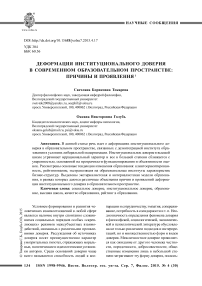Деформация институционального доверия в современном образовательном пространстве: причины и проявления
Автор: Токарева Светлана Борисовна, Голубь Оксана Викторовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье речь идет о деформациях институционального доверия в образовательном пространстве, связанных с дезинтеграцией института образования в условиях либеральной модернизации. Институциональное доверие в высшей школе утрачивает иррациональный характер и все в большей степени сближается с уверенностью, основанной на прозрачности функционирования и объективности оценок. Рассмотрены основные тенденции изменения образования: клинтоориентированность, рейтингование, экстраполяция на образовательные институты характеристик бизнес-структур. Выделены экстерналистская и интерналистская модели образования, в рамках которых даются различные объяснения причин и проявлений деформации институционального доверия в образовательном пространстве.
Социальное доверие, институциональное доверие, образование, высшая школа, качество образования, рейтинг в образовании
Короткий адрес: https://sciup.org/14974974
IDR: 14974974 | УДК: 304 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2015.4.17
Текст научной статьи Деформация институционального доверия в современном образовательном пространстве: причины и проявления
DOI:
Условием формирования и развития человеческих взаимоотношений в любой сфере является наличие внутри спонтанно сложившихся социальных порядков особых «скрепляющих» режимов межсубъектных взаимодействий, связанных с различными проявлениями доверия. Рассуждения об источниках доверия носят преимущественно характер умозрительных гипотез, отражающих моральные, политические и идеологические установки авторов. Среди оснований доверия чаще всего называются способность людей к коо- перации и сотрудничеству, эмпатия, сопереживание, потребность в солидарности и т. п. Неоднозначность определения феномена доверия в философской, социологической, экономической и психологической литературе обусловлена не только различием подходов и интерпретаций, но и множественностью форм и видов доверия. Межличностное доверие проявляется как ожидание от другого человека честности, порядочности, добросовестности; общественные изменения лишь в небольшой степени затрагивают эту форму доверия, посколь- ку человек нуждается в нем как в условии психологического комфорта. Иначе дело обстоит с институциональным доверием, проявляющимся как убежденность в легитимности, рациональности, открытости и «прозрачности» социальных институтов, а также в ожидании предписанного социальной ролью поведения и исполнения обязательств со стороны субъектов – носителей определенных социальных статусов.
Наиболее разработанными в теоретическом отношении являются социально-экономические и психологические исследования доверия [1; 4; 6; 10; 14]. Сложившиеся в рамках этих наук подходы легли в основу социологических и социально-философских теорий, в которых доверие рассматривается как составляющая социального капитала, условие устойчивости социальной структуры, фактор снижения неопределенности и риска (М. Гранноветтер [3], Дж. Коулман [5], Н. Луман [7], А. Селигмен [9], Ф. Фукуяма [11], П. Штомпка [13]). «Вписанность» субъектов в системы доверия (формальные или неформальные) предполагает принятие ими на себя определенных обязательств [5, с. 128]. Как справедливо указывает М. Гран-новеттер, доверие позволяет снизить трансакционные издержки и незаменимо там, где возникает необходимость «делегировать власть или передать ресурсы другим» [3, с. 83]. При этом высокий уровень межличностного доверия может приводить к тому, что эффективность бизнеса или социального института будет приноситься в жертву межличностным обязательствам и благосостоянию локального сообщества [3, с. 83].
В.И. Чупров и В.В. Михеева выделяют следующие основные особенности доверия: его укорененность в структуре социальных взаимодействий, интенциональность, историчность [12]. Это означает, что доверие имманентно миру человеческих отношений и неустранимо из него. Поскольку доверие представляет собой установку сознания, оно всегда направлено на кого-то или на что-то; историчность доверия проявляется, прежде всего, в вариативности его форм. Социальное доверие обеспечивает предсказуемый характер социального мира и, помогая устанавливать корпоративные и личные отношения, снижает неопределенность в области социальных взаимодействий за счет того, что оно укрепляет когнитивные стереотипы и установки к межгрупповому взаимопониманию.
Важность изучения деформаций в процессах формирования и функционирования институционального доверия в системе образования связана с тем, что уровень и специфика проявлений доверия влияют на стандарты социального поведения, на поддержание в системе образования социальных связей и социального порядка. Трансформация форм институционального доверия, являющаяся следствием централизованной политики в области образования, обусловлена целым рядом новых тенденций, убеждающих в правомерности экстраполяции социально-экономических и социологических моделей на исследования доверия в современном образовательном пространстве. В условиях господства традиционной модели образования рост индивидуализации общественной жизни имел своим следствием утверждение генерализованных форм социального доверия, выражающегося в иррациональном по своей природе убеждении в том, что члены образовательного сообщества будут демонстрировать следование принятым нормам и нацеленность на сотрудничество. Традиционная модель закрепляла эти ожидания в ролевых предписаниях и профессиональных стандартах участников образовательного процесса. Наиболее надежной основой для возникновения генерализованных форм институционального доверия служит общность моральных ценностей, о чем вслед за Ф. Фукуямой писал и П. Штомпка: «Исследования показывают, что взаимное доверие в сообществе тем сильнее, чем более основные ценности разделяются всеми» [13, с. 419]. Однако модернизация в российском обществе привела к разрушению базовых ценностей, в том числе в области образования, в связи с чем появилась необходимость обретения навыков доверия к абстрактным системам (стандартам, рейтингам) и субъектам, чьи функции связаны с безличными обязательствами (аккредитационным агентствам, контролирующим органам и т. п.). В этой связи исследователи отмечают, что господствующим в современном обществе является как раз такое безличное, функциональное, рационализированное доверие к образовательной системе в целом и ее отдельным институтам, а также безличным статусам и ролям [14, с. 5–15].
В немалой степени эта переориентация была связана с тем, что реализация организационно-экономических преобразований в России в 1990-е гг., затронувшая и систему образования, привела к деструктивным изменениям системы ценностных ориентиров. Были существенно снижены стандарты поведения субъектов образовательного процесса, что привело к дискредитации морального облика преподавателя и понизило социальный статус профессии. В результате это привело к деформации институционального доверия, поскольку «сценарий доверия» оказался неотличим от «сценария контроля»: мы доверяем постольку, поскольку образовательная среда является открытой и прозрачной.
В этой связи одной из важных теоретических проблем оказался вопрос о границах доверия, поскольку его избыток порождает бесконтрольность, вседозволенность, коррупцию, усиление авторитарных тенденций в образовательном пространстве. Однако удовлетворить потребность в информированности и контроле часто пытаются за счет усиления формализации деятельности участников образовательного процесса, из-за чего страдает его содержательная сторона. Исследования показали, что недоверие к преподавателям и усилившийся контроль со стороны руководителей и административных органов разного уровня создают атмосферу стресса и приводят к снижению мотивации, творческого потенциала и ухудшению трудового климата в образовательном пространстве [2, c. 90–91].
Другой причиной деформации институционального доверия является формирование в образовательном пространстве конкурентной среды. Участие в конкурентной борьбе имеет целью задать и поддерживать высокие темпы развития российской науки и образования, обеспечить их интеграцию в мировое научное и образовательное пространство. Представления об эффективности, выработанные в рамках Болонского процесса, усиливают тенденцию к проникновению в научную и образовательную среду черт и способов организации, характерных для бизнес-структур. В рамках образовательной деятельности начинает вос- производиться механизм самоорганизации, работающий по принципу рыночной конкуренции, где роль капитала играет востребованность конкретного образования / учебного заведения / педагога. Образование, в свою очередь, становится клиентоориентированным, дающим возможность выбора содержания обучения, обеспечивающим мобильность студента (смену специальности, если поменялись интересы; смену места обучения и т. п.) [8, с. 162]. И хотя это приводит к утрате системного характера образования, в результате чего оно превращается в список прослушанных курсов, даже «беглый анализ основных принципов и направлений Болонского процесса позволяет утверждать, что клиентоориентированность является основным показателем позитивности проводимых изменений» при оценке реформ российского образования [8, с. 162].
Рейтингование – один из инструментов оценки деятельности субъектов и функционирования структур, действующих в образовательном пространстве. В этой связи встает задача разработки объективных организационных, наукометрических и библиометричес-ких показателей, при помощи которых оцениваются привлекательность учебных заведений, качество предоставляемого ими образования, их научный потенциал. Доверие или недоверие в этом случае касаются объективности проводимых мониторингов и оценки эффективности.
Выделенные тенденции – клиентоориен-тированность, рейтингование, экстраполяция характеристик бизнес-структур – приводят к деформации привычных форм доверия в образовании. Организационные трансформации в образовании, сопровождающиеся деформацией традиционных форм доверия, могут быть описаны в рамках двух моделей, которые можно обозначить как экстерналистскую и интер-налистскую. Экстерналистская модель образования предполагает в качестве его основной цели выполнение социальных функций, связанных с поддержанием стабильности социальной системы. Такой органический подход делает внутренние показатели целедос-тижения образовательной системы (в частности, показатели качества образования) подчиненными этой задаче. Интерналистская модель образования, напротив, ориентирова- на по преимуществу на достижение тех целей, которые формулируются внутри образовательной системы, таких как поддержание высоких темпов развития, организационная эффективность, место в рейтингах, степень интеграции в мировое образовательное пространство, доступ к источникам финансирования и т. п. Зависимость статуса вуза и, соответственно, его финансирования от целевых показателей заставляет субъектов образовательного процесса переориентироваться с выполнения общественно значимых функций на целедостижение. Выбор целей осуществляется под воздействием идеологии Болонского процесса и ориентирован в большей степени на удовлетворенность потребителя, в качестве которого рассматривается прежде всего обучающийся. Его внутренние цели – мобильность, возможность выбора индивидуальной траектории обучения, наличия элективных курсов и т. п. для системы образования являются внешними, однако именно они задают направленность ее развития и декларируются как приоритетные.
Для того чтобы выделенные деформации форм институционального доверия превратились в устойчивые тенденции и характеристики образовательного пространства, они должны рутинизироваться, превратиться в привычную практику, подкрепленную стандартами. Какие из этих из них пройдут этот «социальный фильтр» – покажет время.
Список литературы Деформация институционального доверия в современном образовательном пространстве: причины и проявления
- Белянин, А. В. Доверие в экономике и общественной жизни/А. В. Белянин, В. П. Зинченко. -М.: Либеральная миссия, 2010. -164 с.
- Вольчик, В. В. Проблема доверия и институциональные инновации/В. В. Вольчик//Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. -2012. -Вып. 41. -С. 89-96.
- Гранноветтер, М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа/М. Гранноветтер//Журнал социологии и социальной антропологии. -2004. -Т. VII, № 1. -С. 76-88.
- Зинченко, В. П. Психология доверия/В. П. Зинченко//Вопросы философии. -1998. -№ 7. -С. 76-93.
- Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий/Дж. Коулман//Общественные науки и современность. -2001. -№ 3. -С. 122-139.
- Купрейченко, А. Б. Психология доверия и недоверия/А. Б. Купрейченко. -М.: Ин-т психологии РАН, 2008. -571 с.
- Луман, Н. Понятие риска/Н. Луман//THESIS. -1994. -Вып. 5. -С. 135-160.
- Попова, Е. П. Организационное развитие вузов и снижение эффективности организационной деятельности/Е. П. Попова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2015. -№ 3 (29). -С. 161-166.
- Селигмен, А. Проблема доверия/А. Селигмен. -М.: Идея-Пресс, 2002. -256 с.
- Скрипкина, Т. П. Психология доверия/Т. П. Скрипкина. -М.: Академия, 2000. -264 с.
- Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию/Ф. Фукуяма. -М.: АСТ: Ермак, 2004. 730 с.
- Чупров, В. И. Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий в условиях неопределенности. Почему нет мира на Украине?/В. И. Чупров, В. В. Михеева. -М.: Норма, 2015. -159 с.
- Штомпка, П. Доверие -основа общества/П. Штомпка; пер. с пол. Н. В. Морозовой. -М.: Логос, 2012. 440 с.
- Экономика и социология доверия/под ред. Ю. В. Веселова. -СПб.: Социол. об-во им. М. М. Ковалевского, 2004.