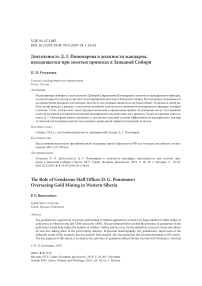Деятельность Д. Г. Пономарева в должности жандарма, находящегося при золотых приисках в Западной Сибири
Автор: Румянцев Петр Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о деятельности Дмитрия Гавриловича Пономарева в должности жандармского офицера, осуществлявшего надзор за частной золотопромышленностью в Западной Сибири. Исследование основывается на привлечении архивных источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. В процессе своей работы автор пришел к выводу о достаточно активной деятельности названного жандармского офицера, который в течение 14 лет, дольше всех своих предшественников и приемников пробыл на указанном посту, что отражено в многочисленной делопроизводственной жандармской документации того времени. Также на примере деятельности Д. Г. Пономарева можно заключить о достаточно высокой степени эффективности жандармского надзора за частной золотопромышленностью в рамках проводимой правительственной политики.
Сибирь, xix в., золотопромышленность, жандармский надзор, д. г. пономарев
Короткий адрес: https://sciup.org/147220037
IDR: 147220037 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-1-56-65
Текст научной статьи Деятельность Д. Г. Пономарева в должности жандарма, находящегося при золотых приисках в Западной Сибири
Rumyantsev P. P. The Role of Gendarme Staff Officer D. G. Ponomarev Overseeing Gold Mining in Western Siberia. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2019, vol. 18, no. 1: History, p. 56–65. (in Russ.) DOI 10.25205/18187919-2019-18-1-56-65
Вопрос об учреждении жандармского надзора за частной золотопромышленностью на сибирских землях в правительственных кругах был поднят на рубеже 30-х – 40-х гг. XIX в. по следующей причине. Именно в это время на частных золотых промыслах, как в Западной, так и Восточной Сибири, прокатилась волна массовых волнений рабочих, вызванных несоблюдением условий контрактов со стороны владельцев промыслов и их доверенных лиц, плохими материальными условиями жизни на приисках, а также насилием со стороны администраций золотопромышленных предприятий. Следовательно, необходимы были правительственные меры для пресечения впредь подобных волнений и осуществления контроля в целом за развитием золотопромышленности. Выход из этой ситуации виделся в учреждении надзора со стороны лиц, не зависящих от местных властей и самих золотопромышленников, которые сообщали бы вышестоящей власти обо всех нарушениях и являлись правительственным «оком» на таежных приисках. С этой задачей могли справиться офицеры Корпуса жандармов, на которых и возлагалось исполнение подобных миссий в николаевской России, что и обусловило появление жандармского надзора за частной золотопромышленностью в Сибири.
Отечественные исследователи изучают деятельность российской жандармерии в различном контексте. В первую очередь жандармское ведомство рассматривается как инструмент контроля за региональной властью и общественным мнением [Ремнев, 2015. С. 180–202]. Также выделяется выполнение жандармскими чинами таких функций, как комендантов ярмарок, контроль за проведением рекрутских наборов и различных полицейских обязанностей [Коновалов, 2014; Романов, 2010]. Также деятельность офицеров Корпуса жандармов попадает в поле зрения отечественных исследователей при изучении вопроса о надзоре с их стороны за региональной исполнительной властью, борьбой со взяточничеством чиновничьего аппарата на местах [Бикташева, 2015; Абакумов, 2017].
Вместе с тем необходимо отметить, что на этом перечне деятельность жандармов не ограничивалась, в поле их зрения попадали и другие вопросы, в том числе связанные с промышленным сектором экономики и положением рабочих. Так, по ряду причин, которые были уже приведе- ны, золотопромышленность на сибирских землях также обратила на себя внимание жандармерии, что нашло отражение в их документации [Зиновьев, 2009]. Несмотря на то, что факт нахождения жандармских штаб-офицеров на сибирских золотых промыслах в отечественной историографии известен давно [Семевский, 1898], однако история учреждения и дальнейшего функционирования надзора со стороны жандармского ведомства за частной золотопромышленностью в Сибири только с недавнего времени стала привлекать внимание отечественных исследователей [Бибиков, Бакшт, 2016; Бакшт, Румянцев, 2016; Бакшт, 2017]. В представленной статье будет предпринята попытка исследования деятельности Д. Г. Пономарева на посту жандармского штаб-офицера на частных золотых приисках в Западной Сибири. Выбор его кандидатуры обусловлен тем, что он дольше всех, на протяжении 14 лет, осуществлял надзор за функционированием частной золотопромышленности в крае. Сохранилось достаточное количество документации о его деятельности, что дает прекрасную возможность всестороннего изучения процесса осуществления жандармского надзора за указанной промышленной отраслью, а также возможность ответить на вопрос об эффективности такого надзора.
Дмитрий Гаврилович Пономарев родился в 1797 г., по происхождению был из дворян Оренбургской губернии. Военную службу начал в 1808 г., вступив в должность унтер-офицера Оренбургского гарнизонного полка. Имел боевой опыт, участвуя в Кавказской войне фактически с самого ее начала и на протяжении более чем десяти лет. Находясь на военной службе, получил ряд орденов: св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1829 г.) и такой же орден 3-й степени с бантом. В 1831 г. в звании подполковника уволен по болезни с сохранением мундира и пенсионом в размере 1/3 от прежнего жалованья. Через три года он вернулся на службу, заняв должность командира отдельной беломорской роты Архангельского таможенного округа. В 1840 г. на этой должности он получил чин полковника и был замечен как ответственный офицер, что и предопределило его перевод в Корпус жандармов 1.
Необходимо отметить, что Пономарев был одним из тех офицеров, которых часто в исследовательской литературе относят к жандармам «бенкендорфовского» призыва, т. е. поступивших в Корпус жандармов еще при жизни первого шефа корпуса – А. Х. Бенкендорфа. Последний вел тщательный отбор из числа желающих поступить на службу в Корпус жандармов, и одним из главных критериев такого отбора являлось наличие боевого опыта на действительной военной службе. Также обращалось внимание на деловые качества кандидата, на отзыв о нем со стороны его начальства по предыдущим местам службы, наличие или отсутствие взысканий. Пономарев хорошо подходил под эти требования, поэтому нет ничего удивительного, что приказом от 15 июля 1843 г. он был переведен в означенный корпус.
Как писалось выше, должность жандармского штаб-офицера на частных золотых промыслах появилась как ответная реакция правительства на массовые волнения приисковых рабочих в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в.: в 1841 г. эта должность была учреждена для приисков, расположенных в Западной Сибири, а в следующем году – для Восточной Сибири. Новые жандармские чины выполняли широкий круг обязанностей, осуществляя надзор за состоянием золотых промыслов и положением рабочих на них, обязываясь ежегодно объезжать огромные таежные территории, на которых велись работы по добыче золота. Первым офицером, отправленным для исполнения указанной миссии на прииски в Западную Сибирь, был Иван Михайлович Огарев, до этого исполнявший обязанности штаб-офицера жандармского ведомства в Тобольской губернии. Однако на новой для себя должности он пробыл недолго и уже через два года его отозвали на прежнее место службы.
В 1844 г. Огарева сменил как раз Пономарев, проработавший в этой должности на протяжении четырнадцати лет. При этом необходимо отметить, что полковник Пономарев до своего назначения не был знаком с золотопромышленным делом, что понятно из следующего документа. 22 июня 1844 г. отношением за № 37 Пономарев обращался в Алтайское горное правление с просьбой сообщить ему следующую информацию: «1-е. Какое имеют разделение частные золотые прииски Западной Сибири, по дистанциям или системам, с объяснением названия каждой, какие заключают в себе прииски и кому принадлежат. 2-е. Какие и на которых приисках или системах господствующие породы торфа и пласта золотосодержащего и вообще сколько разнообразных пород. 3-е. Какого вида величины и достоинства вырабатываемо золото и на всех ли приисках или системах одинаковы» 2. В своем ответе от 15 июля того же года Алтайское горное правление сообщило, что информацию о частных золотых промыслах оно уже передавало (видимо, Огареву, предшественнику Пономарева), а согласилось только предоставить выписку от частных золотопромышленников Томской губернии о разрабатываемых ими промыслах «с показанием в ней, какой пробы и сколько оказалось золота каждого прииска сдельно» 3.
В то же самое время обращался Пономарев и к другим должностным лицам для получения сведений по различным вопросам, связанным с процессом золотодобычи и положением рабочих на золотых промыслах. Так, штаб-медик по частным золотым промыслам Дохнович в своем рапорте № 65 от 17 ноября 1844 г. Алтайскому горному правлению сообщал, что к нему обращался полковник Корпуса жандармов Пономарев и просил предоставить ему информацию по восьми интересующим его вопросам: на каких приисках существуют лазареты и на сколько человек больных они рассчитаны; качество обеспечения этих больниц всем необходимым для медицинской деятельности; количество больных в течение промысловой операции; наблюдались ли «особенного характера болезни, принадлежащие исключительно свойству здешнего климата и времени года»; количество летальных исходов среди больных и пр. На все эти вопросы Дохнович дал Пономареву развернутую информацию 4.
В дальнейшем Пономарев хорошо освоился на новом для себя месте службы, что видно из его документации. Так, основными документами являлись отчеты о развитии местной золотопромышленности, которые составлялись ежегодно по окончанию промысловой операции на приисках. Эти документы адресовались на имя руководителя VIII жандармского округа, непосредственного начальника Пономарева, а также на имя генерал-губернатора Западной Сибири. Уже в свой первый год пребывания в новой должности Пономарев составил отчет о состоянии частной золотопромышленности в Западной Сибири за 1844 г. В нем он не стал останавливаться на описании золотоносных систем как таковых, а сосредоточил внимание на состоянии действующих приисков. Так, он вкратце затронул вопрос о технической стороне процесса золотодобычи, условиях найма рабочих. Затем подробнее рассмотрел состояние полицейской стражи на промыслах, указал основные происшествия, произошедшие в течение промысловой операции, а также остановился на характеристике медицинской части и религиозной жизни в тайге. При этом жандармский полковник дал свою оценку действиям служебных лиц, задействованных в золотопромышленной сфере. Деятельность казачьей стражи он охарактеризовал следующим образом: «Все чины исполняли свои обязанности с усердием и расторопностью, вели себя хорошо, подчиненность была строгая, казенное довольствие получали исправно, лошади строевые и вьючные постоянно были в хорошем теле, которые найдены мной в таком же состоянии при осмотре во время проследования чрез Томск, сделавши 300
верст; амуниция и оружие в чистоте и сбережении; нижние чины никаких претензий не объявляли». А описывая многостороннюю и активную деятельность горного исправника Тимофеева, он делал вывод: «…потому во всех случаях, лично видя благонамеренность его действий, осмеливаюсь свидетельствовать, что он заслуживает особенного внимания начальства» 5.
В дальнейшем в своих ежегодных отчетах о состоянии местной золотопромышленности Пономарев оставался таким же последовательным в описании всего им замеченного на золотых приисках. Структура их выглядела следующим образом: в начале шли статистические сведения о развитии золотопромышленности (количество промытой породы и добытого золота, численность рабочих и служащих и пр.), затем информация о положении рабочих, полицейской части, перечислялись основные происшествия, произошедшие в течение промысловой операции, состояние медицинской части и таежных дорог, церковная жизнь на приисках, сведения о выходе рабочих с промыслов по окончании работ. Важно отметить, что отчеты Пономарева не только внимательно читались их адресатами, что видно по пометкам, сделанным на страницах, но и на них следовала реакция. Так, например, получив отчет за 1854 г., генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорд обратился к томскому гражданскому губернатору В. А. Бекману, прося последнего разобраться с ситуацией, когда рабочие на ряде приисков в конце промысловой операции вместо обещанного жалованья получают только квитанции, что не должно иметь места, и просил губернатора следить, чтобы подобная ситуация впредь больше не повторялась 6.
Интересно отметить, что жандармский штаб-офицер Пономарев рапортовал не только о состоянии частного золотого промысла, но делал сообщения и по тем вопросам, которые, по его мнению, заслуживают внимание со стороны высшей исполнительной власти в регионе. Например, в 1851 г. он докладывал генерал-губернатору Западной Сибири Г. Х. Гасфорду о коррумпированности крестьянского выборного управления в с. Тисульском Дмитриевской волости Томской губернии, выражавшейся в поборах с местного населения со стороны выборных должностных лиц. Г. Х. Гасфорд, получив донесения жандармского штаб-офицера, отдал распоряжение о проведении расследования по этому делу, в ходе которого информация Пономарева полностью подтвердилась. Как следствие, последовали наказание виновных и замена должностных лиц в местном крестьянском самоуправлении 7.
Тем самым можно увидеть, что ежегодные жандармские отчеты о состоянии местной золотопромышленности, а также отдельные рапорты являлись надежным для власти каналом информации о положении золотопромышленности в крае, на которых следовала реакция. Сообщаемые жандармскими чинами сведения для власти представлялись правдоподобной информацией по той причине, что офицеры Корпуса жандармов не находились на обеспечении местных золотопромышленников, не брали от последних взяток, как это было замечено за такими должностными лицами, как горные исправники и ревизоры (о чем, кстати, доносили и сами жандармы). Соответственно, жандармские штаб-офицеры без всякого стеснения сообщали власти о разного рода происшествиях, преступлениях, злоупотреблениях и пр., происходящих на золотых промыслах в Сибири, являясь тем правительственным оком, которое власти хотели видеть в лице жандармских чинов на золотых приисках.
Пономарев пытался узнать обо всех нюансах золотопромышленного дела не только от переписки с различными должностными лицами, но и за счет личного присутствия на частных золотых промыслах. Так, на втором году пребывания Пономарева в указанной должности произошел следующий случай. Горный исправник Тимофеев рапортом от 4 августа 1845 г. сооб- щал томскому гражданскому губернатору, что на прииске Никольском купца второй гильдии Серебренникова обнаружено несколько нарушений горного законодательства. Тимофеев далее сообщал: «Все рабочие в присутствии полковника Пономарева объявили, что они просили управляющего сделать в разрезе повыше забоя от 2 до 3-х уступов и гораздо шире, но он не согласился. <…> Полковник Пономарев входил во все подробности и делал измерение вышины забоя и уступов» 8.
Одним из вопросов приисковой жизни, которому Пономарев уделял повышенное внимание, являлось состояние медицинского обслуживания на золотых промыслах. В своих отчетах жандармский штаб-офицер фиксировал количество больниц, аптек на приисках, качество их оснащения, а также давал характеристику медицинскому персоналу. Эта информация является уникальным, фактически единственным источником о состоянии медицинской части на золотых приисках того времени. Особо Пономарев выделял деятельность штаб-медика Дохновича. Уже в своем первом отчете (за 1844 г.) жандармский полковник писал об этом приисковом эскулапе, что он «…посещал лазареты и все прииски с той пользой и столь часто, сколько его усердие и познание, приобретенные воспитанием и опытностью, доставляли ему возможность» 9. В дальнейшие годы положительная оценка деятельности Дохновича по-прежнему присутствовала в годовых отчетах Пономарева о состоянии частной золотопромышленности. Так, в отчете за 1856 г. он характеризовал действия Дохновича следующим образом: «Частое посещение приисковым медиком Дохновичем лазаретов, личное наблюдение, опытные его наставления лекарским ученикам, предупреждали все, что зависело от его предусмотрительности. Не взирая на неоднократные отзывы золотопромышленников в затруднении приискания лекарских учеников, г. Дохнович сам их изыскивал и посылал на прииски из вольнонаемных и таким средством обеспечивал надзор за больными» 10.
Должностные обязанности призывали жандармских штаб-офицеров с 1 мая по 1 октября постоянно присутствовать на золотых промыслах. Объезд летом приисков был крайне непростым занятием, учитывая те условия местности, где располагались места по добыче золота, разбросанные друг от друга на огромном расстоянии. Нередко приходилось на протяжении длительного времени передвигаться верхом на лошади, не слезая с нее, пробираясь через пересеченную местность, терпя многочисленные лишения от таких поездок. Ситуация для Пономарева усугублялась подорванным за долгие годы службы в различных местах здоровьем, что осложняло ему выполнение обязанностей по надзору за состоянием частной золотопромышленности на огромной территории. Но, несмотря на все трудности, Пономарев старался добросовестно выполнять свою работу, о чем свидетельствует следующий пример. Горный исправник Тимофеев в своем отношением от 4 сентября 1850 г. просил полковника Пономарева прибыть на прииск Варваринский Компании Рязановых для расследования нарушения, связанного с незаконной добычей золота. В своем ответе жандармский полковник сообщал, что «…страдая издавна ревматизмом при проезде ныне на прииск Воскресенский Ко Рязановых в ненастное время я вновь получил столь сильную простуду, что в настоящее время не могу прибыть на прииск Варваринский к следствию; тем более, что способ лечения, я предпринимаю такой, который требует большой осторожности от холодного открытого воздуха и определить время моего выздоровления не могу. Впрочем, по близости прииска Варварин-ского к Воскресенскому Ко Рязановых, если следствие это может производиться на последнем в квартире моей и недалече окончится 10 сентября, то я при болезненном моем состоянии готов быть при производстве оного» 11.
Помимо надзора за различными сторонами процесса золотодобычи, материально-бытового положения работников, Пономарев уделял внимание и нравственной стороне приисковой жизни. В своих ежегодных отчетах он всегда указывал информацию о церквах на таежных приисках, ратуя за увеличение количества церквей и меры к приобщению рабочих к религиозной жизни, что, по его мнению, будет способствовать улучшению социальных отношений на предприятиях. Так, уже в своем первом отчете о состоянии золотого промысла за 1844 г. он писал, что помимо действующих церквей «необходимо устроить походную церковь по примеру частной золотопромышленности в Восточной Сибири, если бы угодно было правительству пригласить к этому готовых уже частью золотопромышленников. <…> [Есть огромное количество рабочих], которые по нескольку лет, не выходя с одного прииска, не видят службы Божией, а в Великий пост не бывают при исповеди и св. причастия и по необходимости могут ослабевать в религии и нравственности» 12.
Еще одной заботой жандармского штаб-офицера являлась борьба с такими пагубными явлениями в приисковой среде, как пьянство и провоз на золотопромышленные предприятия спиртных напитков со стороны так называемых «спиртоносов», категории людей, ведших запрещенную торговлю горячительными напитками, зачастую очень низкого качества, что не мешало им продавать среди рабочих свой суррогат за большие деньги. В борьбе со спиртоносами сошлись интересы промышленников, администраций предприятий, а также и правительства в лице жандармских чинов, осуществлявших надзор за деятельностью частновладельческих золотых промыслов. Так, Пономарев 2 августа 1849 г. отношением № 41 обращался к горному инженеру Лебедкину по следующему предмету. По его словам, на днях администрация Воскресенского привела ему мальчика Федора Иванова, пойманного с бутылкой вина, купленного за 4 руб. 50 коп. ассигнациями у некоего мещанина Быстрова. Жандармский штаб-офицер предлагал немедленно провести обыск в квартире Быстрова, мотивируя это тем, что «…тор-говля на золотых промыслах бывает сопряжена неразлучно с торговлею похищаемого золота, а по случаю отсутствия горного ревизора и горных отводчиков и лично Вашему здесь нахождению по следствию, не предстоит другого средства, как покорнейше просить присутствия Вашего Высокоблагородия при помянутом обыске теперь же» 13.
Следует отметить, что содержащаяся в документах Пономарева информация имела высокую степень достоверности. Вывод этот делается из реакции жандармского начальства и генерал-губернаторов на выявленные им случаи разного рода нарушений, последовавшей переписки с разными должностными лицами, которая подтверждает объективность сведений жандармского чина.
Активная деятельность Пономарева в должности жандармского штаб-офицера на частных золотых промыслах в Западной Сибири отмечалась вышестоящим начальством, и, в частности, это привело к получению Пономаревым новых наград. Исходя из анализа приказов по Корпусу жандармов, следует, что 11 апреля 1848 г. он получил орден св. Анны 2-й степени, 23 апреля 1850 г. – орден св. Анны 2-й степени с императорской короной, 11 апреля 1854 г. он был отмечен орденом св. Владимира 3-й степени, а в 1857 г. – св. Станислава 1-й степени. Помимо указанных орденов он последовательно получал знаки отличия за беспорочную службу: в 1850 г. – за 30 лет, 1853 г. – 35 лет, 1858 г. – 40 лет.
Но, пожалуй, высшей наградой деятельности Пономарева стало то, что приказом № 30 по Корпусу жандармов от 10 апреля 1851 г. за отличие по службе он был произведен в чин генерал-майора, оставаясь при своей должности [Россия. Отдельный корпус жандармов, 1851]. Необходимо отметить, что по штатному расписанию звание на занимаемой им должности должно было быть не выше полковника. Таким образом, по званию он сравнялся с непосредственным своим начальником, стоявшим во главе VIII жандармского округа и кому адресовались все его донесения (в 1844–1853 гг. эту должность занимал К. И. Влахопулов, а в 1853–1860 гг. – Я. Д. Казимирский). В самом факте повышения Пономарева в звании в обход штатного расписания можно увидеть, как высоко ценило его и собственное начальство, и высшая исполнительная власть в регионе в лице генерал-губернатора Западной Сибири, без которого это повышение явно не обошлось. В звании генерал-майора Пономарев продолжил свою работу на все той же должности с присущей ему аккуратностью, внимательностью и исполнительностью.
В 50-е гг. XIX в. на частных золотых приисках уже не наблюдалось таких масштабных волнений со стороны рабочих, как 10–15 годами ранее, приведших собственно к организации правительственного надзора за частной золотопромышленностью со стороны жандармского ведомства. Деятельность жандармских чинов, осуществлявших этот надзор, обходилась недешево, в первую очередь для местной власти, так как ежегодно губернские казенные палаты обязаны были выдавать офицерам деньги для объезда золотых промыслов – по 1 000 руб. серебром (затем по 500 руб.) для жандармского штаб-офицера по Западной Сибири и по 1 000 руб. также серебром (затем по 2 000 руб.) по Восточной Сибири. К тому же как в правительственных кругах, так и среди местной власти находилось немало людей, которые не видели положительного эффекта от жандармского надзора за частной золотопромышленностью и выступали за его скорейшую отмену и переключение деятельности жандармов на другие сферы. Достаточное количество золотопромышленников разделяло это мнение по той причине, что именно они содержали жандармских штаб-офицеров, платя специальную подать с каждого добытого ими фунта золота. В итоге 23 апреля 1858 г. был принят закон, согласно которому должности жандармских штаб-офицеров на золотых приисках в Западной и Восточной Сибири упразднялись, а обязанности наблюдения за золотопромышленностью перекладывались на губернских штаб-офицеров: Томской, Енисейской и Иркутской губерний [ПСЗ-II, 1860. № 33049. С. 492].
Таким образом заканчивалась служба генерал-майора Д. Г. Пономарева по надзору за частной золотопромышленностью в Западной Сибири, а вместе с ней подошла к концу и его карьера во многом по причине ухудшения здоровья и того факта, что ему уже шел седьмой десяток лет. Поэтому нет ничего удивительного, что приказом № 41 по Корпусу жандармов от 1 мая 1859 г. Пономарев был уволен со службы с мундиром и с ежегодной пенсией полного жалованья в размере 860 руб. серебром [Россия. Отдельный корпус жандармов, 1859].
Подводя итоги, необходимо отметить, что проведенное нами исследование подтвердило тот факт, что жандармский надзор за частной золотопромышленностью в Сибири являлся достаточно хорошим источником информации для высшей исполнительной власти в регионе о тех процессах и событиях, которые происходили на частных золотых приисках. Более того, со стороны власти часто следовала реакция о необходимости исправления выявленных жандармами тех или иных случаев нарушений. Первые жандармские офицеры, осуществлявшие этот надзор, в том числе и Д. Г. Пономарев, достаточно ответственно относились к своим обязанностям, стараясь подробно вникать во все обстоятельства процесса золотодобычи. Сохранившаяся документация свидетельствует о достаточно высокой компетенции Пономарева в вопросах золотопромышленности. По реакции со стороны занимавших пост генерал-губер- наторов Западной Сибири и непосредственного жандармского начальства на донесения Пономарева можно видеть, как высоко они ценили их. Тем самым деятельность Д. Г. Пономарева демонстрирует процесс взаимодействия жандармского ведомства и высшей исполнительной власти в регионе, старавшихся совместно осуществлять правительственный надзор за частной золотопромышленностью, приходившийся на годы активного выступления приисковых рабочих. Также необходимо отметить, что многие собранные Пономаревым сведения являются уникальным источником по истории сибирской золотопромышленности.
Список литературы Деятельность Д. Г. Пономарева в должности жандарма, находящегося при золотых приисках в Западной Сибири
- Абакумов О. Ю. Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826-1866 гг. М.: Центрполиграф, 2017. 320 с.
- Бакшт Д. А. Практика назначения офицеров корпуса жандармов, уполномоченных по надзору за частной сибирской золотопромышленностью в первой половине XIX в. // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2017. № 50. С. 5-11.
- Бакшт Д. А., Румянцев П. П. «Жандармский надзор» за частной золотопромышленностью в Сибири (1870-1880-е гг.): его сущность, формы и проблемы реализации // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2016. № 6 (44). С. 5-10.
- Бибиков Г. Н., Бакшт Д. А. Учреждение жандармского надзора на золотых приисках Сибири в 1841-1842 гг. // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2016. № 3 (41). С. 16-24.
- Бикташева А. Н. Жандармы и модернизация местного управления в России (опыт и перспективы изучения) // Quaestio Rossica. 2015. № 2. С. 132-143.
- Зиновьев В. П. Жандармско-полицейская отчетность как источник по социальному облику рабочих Сибири в XIX веке // Документ в контексте истории: Материалы II Междунар. науч. конф. Омск, 2009. С. 28-33.
- Коновалов И. А. Сибирский жандармский округ: структура, полномочия и деятельность // Вестн. Омск. ун-та. Сер. Право. 2014. № 14 (41). С. 25-34.
- Ремнев А. В. Сибирь в имперской географии власти XIX - начала XX вв. Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. 580 с.
- Романов В. В. Функционирование местных подразделений политической полиции в условиях проведения ярмарок в 1825-1860 гг. // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. № 1. С. 103-111.
- Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1898. Т. 1. 577 c.