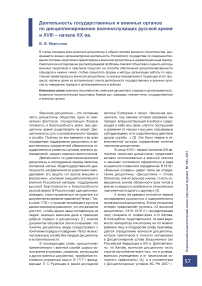Деятельность государственных и военных органов по дисциплинированию военнослужащих русской армии в XVIII - начале XX вв
Автор: Мартынов Вячеслав Федорович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль воинской дисциплины в общей системе военного строительства, раскрывается военно-организаторская деятельность Российского государства по совершенствованию системы укрепления правопорядка и воинской дисциплины в дореволюционный период. Комплексное исследование рассматриваемой проблемы поможет объективно оценить взгляды военных теоретиков и практиков прошлого на способы обеспечения дисциплинированности офицеров и нижних чинов, глубже осмыслить формы и методы организации работы по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, основные направления и тенденции этого процесса, извлечь уроки из исторического опыта деятельности государственных и военных органов по наведению порядка и организованности в войсках.
Военное строительство, воинская дисциплина, порядок и организованность, морально-психологическая подготовка, боевой дух, офицеры, нижние чины, государственные и военные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/14219291
IDR: 14219291
Текст научной статьи Деятельность государственных и военных органов по дисциплинированию военнослужащих русской армии в XVIII - начале XX вв
Воинская дисциплина – это составная часть дисциплины общества, один из важнейших факторов, определяющих боевую готовность и боеспособность войск. Без дисциплины армия существовать не может. Дисциплина есть суть и основа воинского порядка и службы. Поэтому во все времена и во всех государствах поддержание дисциплины в армии являлось приоритетной обязанностью государственных и военных органов, военных руководителей, каждого отдельно взятого воина.
Деятельность по укреплению воинской дисциплины в исследуемый период являлась составной частью общегосударственной деятельности, направленной на укрепление самодержавия, его защиту «от врагов внешних и внутренних», усиление внешнеполитического влияния Российской империи, поддержание высокой боеготовности и боеспособности русской армии. В России слово «дисциплина», очевидно, стало применяться на практике и в документах во времена правления Петра I. Так, в указе 1702 г. о призыве иноземцев в русскую армию император разъяснял, что это делается для того, «чтобы армии наши составлялись из людей, знающих воинские дела и хранящих добрый порядок и дисциплину» [1]. Анализ документов петровской эпохи показывает, что понятие дисциплины везде соседствовало с понятиями порядка и поведения. Петр I не мыслил воинскую службу без твердой дисциплины и исполнительности.
В последующем слово «дисциплина» применительно к военной службе широко используется в приказах, указаниях, инструкциях и других военных документах, приобретая постепенно конкретный смысл. В 1777 г. фельдмаршал П. С. Румянцев в своей докладной записке Екатерине II писал: «Воинская дисциплина, под именем которой разумеем мы порядок, владычествующий в войске и содержащий в себе всю связь слепого послушания и уважения от низших к высшим, называемую субординациею, а по сходственному действию душою службы...» [2]. Это было первое в отечественной истории определение понятия «воинская дисциплина».
В конце XVIII – первой половине XIX вв. понятие «воинская дисциплина» продолжает активно использоваться в военной лексике и начинает постепенно оформляться в виде конкретного словесного определения. В 1818 г. «Военный словарь» давал такое же определение дисциплины: «Дисциплина — Слово Латинское, значит военное учение, то есть совершенное знание обязанности всех чинов в войске и каждого в особенности относительно подчиненности одного к другому» [3].
К этому же времени относятся первые исследования сущностных и содержательных основ воинской дисциплины. В этом отношении интерес представляет рукопись «О воинской дисциплине» (1815–1819 гг.), принадлежащая перу генерала от инфантерии А. И. Хатова. В этой работе, представленной, по всей видимости, императору или второму на тот момент времени лицу в государстве графу Аракчееву, дается определение воинской дисциплины, которое практически в точности скопировано в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской Федерации в XXI в. Действительно, по Хатову, воинская дисциплина «есть строгое выполнение всего того, что в уставах, воинских учреждениях и от начальников исполнять предписано» [4], а в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ 2007 г.:
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
«Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников)» [5].
По своему содержанию рукопись Ха-това явилась наиболее комплексным исследованием проблемы воинской дисциплины в первой половине XIX в. Содержание рукописи поражает глубиной анализа, проведенного автором. Следовательно, военного топографа А. И. Хатова следует считать первым собирателем основных положений, касающихся теории воинской дисциплины и ее укрепления.
Во второй половине XIX – начале XX вв. обозначился новый этап развития теории и практики воинской дисциплины. В 1869 г. на основе положения впервые появляется Дисциплинарный устав, в соответствии с которым воинская дисциплина состояла «в точном и беспрекословном исполнении приказаний начальства, строгом соблюдении чинопочитания, сохранении во вверенной команде порядка, добросовестном исполнении обязанностей службы и неоставлении проступков и упущений подчиненных без взыскания» [6]. Дисциплинарный устав 1879 г. трактует это понятие еще более лаконично: «Воинская дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении правил, предписанных военными законами» [7]. Эта формулировка сохранилась в Уставе дисциплинарном 1912 г., с которым русская армия вступила в Первую мировую войну.
Анализ законодательных актов, военно-педагогической и научной литературы второй половины XIX – начала XX вв. позволяет считать, что теория воинской дисциплины и методов ее укрепления являлась в то время предметом исследования военных теоретиков. При этом военная мысль не ограничивались рамками официальной формулировки воинской дисциплины, а пыталась проникнуть в самую сущность этого явления, познать его содержание. Многие из военных теоретиков считали, что Дисциплинарный устав определил лишь внешнюю сторону понятия, не затронув его глубинных основ. «Дисциплина, как известно, бывает двух видов – внутренняя и внешняя, причем первая является сущностью, содержанием, а вторая – лишь ее формою, выражением, т. е. стороной подчиненной, – считал кадровый офицер русской армии генерал-лейтенант Д. П. Парский, – …внутренняя дисциплина, в основе которой лежат чувства долга и веры, требует глубокой внутренней работы и наличия нравственного и умственного авторитета начальника» [8].
Много ценных мыслей о сути воинской дисциплины мы находим в трудах генерала М. Драгомирова («Сборник за 14 лет», «Сол- датская памятка» и др.). «Воинская дисциплина, – утверждал известный военачальник и теоретик М. И. Драгомиров, – есть совокупность всех нравственных, умственных и физических навыков, нужных для того, чтобы солдаты и офицеры всех степеней отвечали своему назначению… Дисциплина заключается в том, чтобы вызвать на свет Божий все великое и все святое, таящееся в глубине души самого обыкновенного человека» [9].
Понятие «воинская дисциплина», традиции общественной жизни и воинской службы, позиции высшего государственного и военного руководства, взгляды офицерского корпуса определяли методы, которые использовались военным руководством страны для поддержания в армии твердой воинской дисциплины. Настоящее исследование позволило обозначить два основных метода: принуждение и убеждение. По мере демократизации общественных, и в том числе армейских, институтов в меньшей степени использовались методы принуждения и, наоборот, многообразнее становились формы, призванные ненасильственно воздействовать на сознание военнослужащего в интересах его дисциплинирования.
Со времен Петра I приоритетное значение для наведения порядка в войсках имел метод принуждения. По мнению автора статьи, жестокие меры обеспечения уставного порядка в этой конкретной исторической ситуации были вполне оправданы и понятны: во-первых, подобные строгие меры наказания были свойственны всем государствам, Россия не была исключением; во-вторых, создаваемые в начале XVIII в. «новоприборные» части в моральном отношении были не вполне устойчивы (опыт Нарвы, побеги новобранцев, введение «печати антихриста»); в-третьих, введенная рекрутская повинность насильно отрывала крестьян от земли и на всю жизнь отдавала в военную кабалу, что вызывало у рекрутов «брожения».
Создавая новую регулярную армию, Петр I «железной рукой» насаждал в ней жесткую дисциплину. В этих условиях вполне закономерно, что основной формой удержания дисциплины становится репрессия по отношению к нарушителям воинской дисциплины.
В основном военно-правовом документе «Артикуле воинском» 1715 г. были основательно расписаны многочисленные виды наказаний, поражающие нашего современника своей жестокостью. Список видов преступлений, за которые полагалась смертная казнь или телесные наказания, в данном документе был расширен по сравнению с предыдущими отечественными законами. Так, по «Уложению Царя Алексея Михайловича», смертная казнь полагалась за 60 видов преступлений, по со- временному ему французскому законодательству – за 115, а Петр ввел смертную казнь более чем за 200 видов преступлений.
Метод принуждения в укреплении воинской дисциплины являлся доминирующим с начала XVIII до первой половины XIX вв. В этот период происходила постепенная гуманизация ритуалов наказаний. К примеру, в Уставе 1796 г. в отличие от петровских артикулов указывалось только на один вид смертной казни – «казнь через расстрел». Вместе с тем в первой половине XIX в. «палочная дисциплина» продолжала сохранять свое ведущее место среди методов дисциплинирования нижних чинов недворянского происхождения.
Во второй половине XIX – начале XX вв. благодаря усилиям государственных и военных органов, лучших представителей офицерского корпуса важнейшим методом поддержания воинской дисциплины в армии становится метод убеждения. Воинскую дисциплину начинают укреплять посредством нравственного воспитания военнослужащих, формирования осознанного отношения к выполнению своего служебного долга. Вместе с тем необходимо понимать, что появление этого метода произошло намного раньше.
Значительные подвижки в практическом применении метода убеждения происходят уже в петровский период. Большое внимание императора к нравственным аспектам воинской дисциплины подтверждают детальное изучение правовых актов эпохи, личные высказывания Петра, практика боевой деятельности офицеров и нижних чинов. Жесткость в отношении к нарушителям и преступникам не мешала Петру I видеть в простом солдате человека, способного принять цель петровских начинаний, возвыситься до понимания своей роли в решении государственных задач.
Солдат в петровской армии становится государственным человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соблюдение воинской дисциплины – это не слепое повиновение, а осознанное подчинение по служебным вопросам. Солдатам предоставлялось право не выполнять приказ офицера, если он «к службе Его Величества не касается», если это «службе солдатской непристойно», а офицерам под угрозой предания суду и лишения чина запрещалось бить подчиненных солдат, правда, с оговоркой – «без важных и пристойных причин».
В воинском уставе Петра отвергаются унизительные и заискивающие отношения между начальником и подчиненным, доставшиеся в наследство от стрелецкого воинства – никакого «лакомства и похлебства». Между офицерами и нижними чинами, не в ущерб дисциплине, зачастую устанавливались (и по- ощрялись) неформальные отношения, то есть формировались теплые дружески связи, что весьма благотворно влияло на боевую спайку войсковых частей. Офицерам царь вменял в обязанность заботиться о нуждах солдат. Особенно близки к солдату должны были быть их ближайшие руководители – младшие офицеры. Прапорщик обязан был ходатайствовать о нижних чинах «и егда в наказание впадут». Офицеры должны были «во вся дни посещать немощных» нижних чинов.
Большой вклад в распространение в дисциплинарной практике войск методов убеждения, в гуманизацию военно-дисциплинарных отношений внесли выдающиеся военачальники екатерининских времени П. А. Румянцев, Г. А. Потёмкин, А. В. Суворов. Усилием «екатерининских орлов» при поддержке императрицы Екатерины II в войсках получили распространение прогрессивные методы укрепления воинской дисциплины, основанные на стремлении начальников убеждать, разъяснять подчиненным необходимость исполнять свой долг перед Отечеством «не за страх, а за совесть», на заботе о них.
Нельзя говорить, что методы убеждения полностью отсутствовали в практике укрепления воинской дисциплины в первой половине XIX в. – эпоху плац-парада. И тогда среди многих офицеров и военачальников, высоких государственных руководителей существовало понимание, что одними строгими наказаниями и муштрой крепкую воинскую дисциплину не обеспечить. И тогда многие руководители всех степеней стремились обращаться к сознанию масс, терпеливо разъяснять требования службы, заботиться о подчиненных, проявлять по отношению к ним благородство и справедливость. Большую роль в формировании в офицерской среде прогрессивных взглядов на методы укрепления воинской дисциплины в этот период сыграли «вожди русской армии» эпохи наполеоновских войн: М. М. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, А. П. Тормасов, П. Х. Витгенштейн, П. И. Багратион, П. П. Коковицын, Д. П. Неверовский, Н. Н. Раевский, Я. П. Кульнев, М. И. Платов, А. П. Ермолов, В. В. Орлов-Денисов, Д. В. Давыдов и др.; видные флотоводцы Д. Н. Сенявин, М. А. Лазарев, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин и др.; представители лучшей части российского офицерства – декабристы П. И. Пестель, Н. М. Муравьёв, Н. А. Бестужев, К. П. Торсон, В. Ф. Раевский, М. Ф. Орлов, М. А. Фонвизин и др.
В период «Великих реформ» второй половины XIX в. метод убеждения становится основным методом воспитания в армии. По мнению известного военного педагога, автора «Курса военно-прикладной педагогики»
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Д. Н. Трескина: «Новые военные законы, изданные после Севастопольской войны, в основу дисциплины ставят не суровость наказаний, а нравственное воспитание солдата» [10]. В высшем руководстве страны и армии постепенно возобладало мнение, что телесные наказания, а тем более незаконные, являются не поддержанием дисциплины, а, наоборот, представляют собой «в высшей степени расслабляющий ее элемент». В связи с этим больше внимания стало уделяться воспитанию воинов в духе сознательной дисциплины.
Необходимость нравственного воспитания солдата стала очевидной и была признана «в массе начальствующих лиц и стала быстро распространяться по окончании последней Русско-турецкой войны 1878–1879 гг., когда во главе нашей армии появились даровитые руководители».
Большую роль в формировании в офицерской среде прогрессивных взглядов на методы укрепления воинской дисциплины в этот период сыграли М. И. Драгомиров, М. Д. Скобелев, Н. Д. Бутовский, В. И. Дацевич, Н. И. Мау, А. А. Терехов, Н. Я. Шнеур и др. Передовые генералы и офицеры приходили к общему мнению, что палочными и другими жестокими мерами дисциплину в армии насаждать невозможно. Они были едины в своих суждениях в том, что дисциплина должна основываться не на жестокости наказания, не на страхе солдат перед карами за ее нарушение, а на их сознательном отношении к службе, законности и обоснованности взысканий.
Особое внимание к методике укрепления воинской дисциплины стали проявлять в России после бесславного поражения в Русско-японской войне (1904–1905 гг.). Фундаментальные труды и статьи, опубликованные в периодической печати России того времени, обобщали мысли боевых офицеров и генералов, искавших эффективные возможности повышения боеспособности и дисциплины русской армии на путях существенного улучшения воспитания и обучения офицеров и солдат. Целая система реформ в вопросах обучения, воспитания военнослужащих была развернута в работах генерала Д. П. Парского, Д. Н. Трескина и др. Сторонниками прогрессивных методов укрепления дисциплины в тот период были М. С. Галкин, М. Д. Бонч-Бруевич, Н. П. Бирюков, П. И. Изместьев, Д. П. Пармский, В. Л. Райковский, А. П. Скугаревский, Д. Н. Тре-скин, С. Гершельман, М. В. Грулёв, И. Г. Энгель-ман, А. И. Деникин и др.
Реализация метода убеждения военнослужащих в необходимости «не за страх, а за совесть» выполнять свой воинский долг предполагала в исследуемый период наличие определенной государственной и военной идеологии. Официальное оформление государственной идеологии в исследуемый период произошло в эпоху правления Николая I. В ее основу легла так называемая «теория официальной народности». Ее выражением в армии стал призыв: «За веру, царя и Отечество!» Вместе с тем конструкция «Вера – Царь – Отечество», определявшая систему жизненных приоритетов русского «соборного общества», надежно служила русским воинам задолго до создания петровской регулярной армии.
Важным дополнением к идеологии «За веру, царя и Отечество!» для русской армии всегда являлись идеология воинской нравственности, морали, требования, «составляющие целый кодекс специально воинской практической морали».
Единая цель войска – победа над врагом – способствует сплочению воинского коллектива. Воинская дисциплина в этих условиях требует во всех случаях самоотверженно преследовать интересы армии, хотя бы они и шли вразрез с частными, личными интересами. Интересы войска проникают во все поры жизни воина, властно определяют его поступки и образ поведения. В войске устанавливаются определенные понятия о воинских добродетелях. Войско в большей степени становится единым организмом, сила которого – в согласованности действий всех составных его частей и в нравственном воодушевлении его членов.
Таким образом, воинская дисциплина была сложным и противоречивым явлением русской армии, которое на протяжении 200-летнего периода требовало от государственных органов, военачальников и военных теоретиков целеустремленной и многоплановой работы в области теории, методологии, идеологии и практики дисциплинирования военнослужащих. По мере совершенствования общественных институтов, развития военно-педагогической школы решение задачи формирования дисциплинарного поведения военнослужащих усложнялось.
-
1. Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1. С. 25.
-
2. Румянцев П. А. Документы. 1775–1796. М. : Воениздат, 1959. С. 528.
-
3. Военный словарь / соч. М. С. Тучкова. М. : Тип.
-
4. РГБ. Ф. 68. Оп. 1. № М 7399. С. 69.
-
5. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2007. Ст. 1.
-
6. Свод Военных Постановлений 1869 г. Кн. XXIII. Дисциплинарный устав. Изд. 2-е. СПб., 1879.
-
7. Дисциплинарный устав. Военный сборник. № 8. 1879.
-
8. Парский Д. Что нужно нашей армии? Современное ее состояние и необходимые в ней реформы. СПб. : Изд. В. Березовский, 1908. С. 131–133.
-
9. Драгомиров М. И. Избранные произведения. М. : Воениздат, 1956. С. 148.
-
10. Трескин Д. Н. Курс военно-прикладной педагогии. Дух реформ русского военного дела. К., 1909. С. 14.

С. Селивановского, 1818. Ч. 1. С. 125.
Activity of Government and Military Authorities on Servicemen Discipline in the Russian Army (XVIII – Early XX Centuries)
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Список литературы Деятельность государственных и военных органов по дисциплинированию военнослужащих русской армии в XVIII - начале XX вв
- Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1. С. 25.
- Румянцев П.А. Документы. 1775-1796. М.: Воениздат, 1959. С. 528.
- Военный словарь/соч. М.С. Тучкова. М.: Тип. С. Селивановского, 1818. Ч. 1. С. 125.
- РГБ. Ф. 68. Оп. 1. № М 7399. С. 69.
- Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2007. Ст. 1.
- Свод Военных Постановлений 1869 г. Кн. XXIII. Дисциплинарный устав. Изд. 2-е. СПб., 1879.
- Дисциплинарный устав. Военный сборник. № 8. 1879.
- Парский Д. Что нужно нашей армии? Современное ее состояние и необходимые в ней реформы. СПб.: Изд. В. Березовский, 1908. С. 131-133.
- Драгомиров М. И. Избранные произведения. М.: Воениздат, 1956. С. 148.
- Трескин Д. Н. Курс военно-прикладной педагогии. Дух реформ русского военного дела. К., 1909. С. 14.