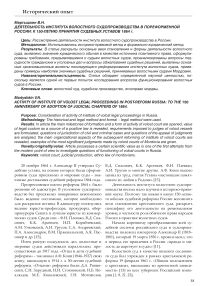Деятельность института волостного судопроизводства в пореформенной России: к 150-летию принятия судебных уставов 1864 г
Автор: Мартышкин Василий Николаевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 3 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
Цель: Рассмотрение деятельности института волостного судопроизводства в России. Методология: Использовались историко-правовой метод и формально-юридический метод. Результаты: В статье раскрыты основные вехи становления и формы деятельности волостного суда, выявлено значение юридического обычая в качестве источника позитивного права, сформулированы требования, предъявлявшиеся к судьям волостных судов, проанализированы вопросы подсудности гражданских и уголовных дел и вопросы обжалования судебных решений, выявлены основные организационные аспекты последующего реформирования института волостных судов, приведены примеры наиболее значимых судебных решений, принимаемых волостными судами Мордовии. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток исследования вопросов функционирования волостных судов в России.
Волостной суд, судебное производство, этноправо мордвы
Короткий адрес: https://sciup.org/14027711
IDR: 14027711
Текст научной статьи Деятельность института волостного судопроизводства в пореформенной России: к 150-летию принятия судебных уставов 1864 г
20 ноября 1864 г. Александр II утвердил Судебные уставы, на основе которых были сформированы суды присяжных и мировые суды – значимые достижения судебной реформы 1864 года.
Прогрессивным шагом реформы 1864 г. было решение об адвокатуре. В уголовном судопроизводстве без присяжных поверенных невозможно было ведение состязания, которое необходимо для раскрытия истины. В адвокатуру потянулись видные юристы-профессора, прокуроры, обер-прокуроры Сената и лучшие юристы из коммерческих судов. Среди них – Ф.Н. Плевако, В.Д. Спа-сович, К.К. Арсеньев, Н.П. Корабчевский, А.М. Унковский, А.И. Урусов, С.А. Андреевский, П.А. Александров, В.М. Пржевальский, А.Я. Пас-совер и др. [15].
Имея разную подсудность дел, волостные и мировые судьи действовали параллельно, просуществовав до 1917 года. «Отцы и дети судебной реформы» – так назвал А.Ф. Кони (1844–1927) свою книгу, вышедшую в 1914 г. к 50-летию судебной реформы. «Отцами» реформы были Д.А. Ровин-ский, С.И. Зарудный, Н.И. Стояновский, Н.Б. Неклюдов, М.Е. Ковалевский, Г.Н. Мотовилов,
В.Д. Спасович, К.К. Арсеньев, Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов и многие другие. А.Ф. Кони высоко ценил их труд, считая Уставы «настоящим памятником их любви к Родине» [15].
Деятельность института волостного судопроизводства весьма мало изучена в историко-правовой науке. Поэтому так важно в канун 150-летнего юбилея судебной реформы России вспомнить вехи становления крестьянского суда, раскрыть специфику его деятельности на региональном уровне, в частности роль обычного права народов России в практике волостных судов.
Начало коренному преобразованию всей судебной системы российского суда и судопроизводства положил император Александр II (1818– 1881), который 19 марта 1856 г. провозгласил, что в период его правления в России «правда и милость да царствует в судах» [11].
Волостной суд в качестве низшего сословного суда был учрежден в рамках крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» [13] во всех губерниях Российской империи [1, 8, 21, 23].
Избирался волостной суд в количестве от 4 до 12 человек на волостном сходе из крестьян на один год. Действовал он коллегиально – в составе не менее трех судей.
Особые требования к кандидатам в судьи: в отношении лица не велось уголовное преследование, возраст не менее 25 лет. Образовательный ценз отсутствовал. Преимущества при избрании получали крестьяне-домохозяева.
Имелись у судей определенные льготы: на период исполнения обязанностей волостные судьи освобождались от натуральных повинностей, от применения телесных наказаний (ст. 114, 124 Положения).
Волостной суд рассматривал споры и тяжбы между крестьянами и иные «маловажные их проступки». Цена иска не превышала ста рублей, а по «желанию сторон» – без ограничения цены иска с лицами иных сословий, проживающих на территории волости (ст. 95, 98 Положения). Решение суда было окончательным.
В области уголовного судопроизводства волостной суд выносил приговор, не подлежащий обжалованию, по проступкам крестьян с назначением наказания: до 6 дней общественных работ; до 3 рублей штрафа; до 7 суток ареста; к телесным наказаниям – до 20 ударов розгами (ст. 102 Положения).
Решения волостных судов на территории современной Мордовии основывались на юридических обычаях, что было характерно и для других губерний Российской империи. Наиболее полно этот вопрос отражен в трудах исследователей В.Н. Майнова [10], Ю.Н. Сушковой [16], Н.Ф. Мокшина [2], В.В. Баринова [1] и других.
По мере наработки судебной практики совершенствовалась организация волостного судопроизводства, расширялась компетенция институтов сельского правосудия.
Согласно Положению от 14 февраля 1866 г. «О порядке отмены решений волостных судов» приговор волостного суда признавался окончательным и не подлежал обжалованию, если при этом не был нарушен закон. В последнем случае он мог быть обжалован в течение 30 дней в мировой суд.
Иван Шкурин, находившись в сильном исступлении пьянства, пришёл под окно и, увидев тут Марью Лобову, ударил её бывшею с ним для собак палкою, отчего у неё при судьях видимы были на теле ударные пятна, и она упала со скамьи, а он, Шкурин, не окончив своё неистовство, раму у неё в окне вышиб и ушёл снова в кабак» [10].
Существенные преобразования организация волостного суда претерпела в законоположениях, утвержденных 12 июля 1889 г. императором Александром III (1881–1894).
В числе важных новшеств были «Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено положение о земских участковых начальниках» [5].
Данное должностное лицо было связующим элементом между волостным судом и государственными учреждениями. Теперь волостной суд состоял из 4 судей, минимальный возрастной ценз которых был поднят до 35 лет. Кандидаты в судьи, избранные в волостях, подлежали утверждению в должности судьи решением земского начальника на 3 года.
Один из судей назначался уездным съездом председателем волостного суда. Заседания суда проходили не реже двух раз в месяц и в основном по воскресеньям и в праздничные дни (ст. 2, 8, 9 «Временных правил…»). Более конструктивной стала компетенция суда в области гражданского судопроизводства.
Например, все иски между крестьянами об имуществе, входившем в состав крестьянского надела, независимо от цены иска передавались на рассмотрение волостной юстиции. В соответствии с «Временными правилами…» волостной суд полномочен был рассматривать и правонарушения, указанные в «Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», в пределах своей компетенции. Количественные и качественные характеристики проступков теперь прямо были указаны в законе [1]. Существенно возрос статус волостных судей: их приводили к присяге; выдавался отличительный нагрудный знак волостного судьи; нормативно закреплен был размер денежного вознаграждения – для председателя не более 100 рублей в год, для судей – не более 60 рублей.
Размер оклада волостного писаря устанавливал уездный съезд, он, как правило, значительно превышал размер жалования судей [12]. Писарь нередко был единственным, кто владел грамотой из состава суда, и на него было возложено оформление всех процессуальных документов волостного суда.
Например, из архивных документов следует, что в Рузаевском волостном суде 4-го земского участка Инсарского уезда Пензенской губернии «волостной писарь Корнеев получает жалованье 660 рублей в год, имеет двух помощников от волости с содержанием по 300 рублей каждому» [1]. Когда в Шишкеевском волостном суде Инсарско-го уезда волостному писарю П.М. Гуринову, который на службе состоял 33 года, на волостном сходе 22 ноября 1908 г. решено было сбавить жалованье с 600 до 420 рублей, земской начальник посчитал, что «жалованье писарю уменьшено незаслуженно, о чем возбуждено ходатайство перед губернским присутствием об оставлению старого оклада» [7]. Ходатайство такого рода обычно обосновывалось значительным стажем и опытом работы, заслугами и увеличением нагрузки на волостного писаря.
В акте ревизии о количестве поступивших гражданских и уголовных дел в Михайловском волостном суде Лукояновского уезда Нижегородской губернии за 1912 г. отмечено: поступило 220 гражданских и 70 уголовных дел. «Решено гражданских – 215 и уголовных – 61 дело, из них прекращено на законном основании 60 гражданских и 15 уголовных дел, неисполненных решений 49, а приговоров 13» [6]; в Болдовском волостном суде уезда в 1909 г. было в производстве 727 дел, из них разрешено 668, а 59 дел перенесены на 1910 г.». Судебная статистика свидетельствует о том, что проблема с оптимизацией нагрузки на судей, в том числе и волостного звена, была актуальна и в прошлом столетии.
Волостные суды свои решения мотивировали не писанными нормами, а основывали на нравственных воззрениях, которые отражали быт различных народов Российской империи, в качестве источника права выступали устоявшиеся местные обычаи, традиции, обряды (юридический обычай, этноправо).
Сложность правоприменения в волостных судах заключалась в отсутствии единой судебной практики, особенно когда в границах одной волости проживали представители разных этносов. Случалось, что в наследственных спорах истцы обосновывали свои требования действием обычая, а ответчики ссылались на существование религиозных догм ислама по вопросу раздела имущества [1]. При таких обстоятельствах не всегда достигалось единообразие судебной практики, так как возникали сложные вопросы соотношения обычая и права, правосудия и религии в многоконфессиональном государстве. Например, по спору татар-мишарей Стрелецкий волости Темниковского уезда (территория современной Мордовии) судопроизводство длилось с 1909 по 1914 г. Темниковский уездный суд, отменив решение волостного суда о порядке наследования имущества, указал, что «в данном деле правила, изложенные в шариате, должны предпочитаться местному обычаю. Определение наследственных прав на имущество, оставшегося после магометан, должно определяться по законам магометанским» [22].
Поверенные тяжущихся сторон по данному делу обратились с жалобой в Тамбовское губернское присутствие. Вышестоящая судебная инстанция, отменив «Решение Темниковского съезда», пришла к выводу, что «при рассмотрении дел о порядке раздела наследственного имущества крестьян судам следовало руководствоваться местными обычаями в случаях, когда на них ссылались стороны по делу. Причем обычай мог быть принят волостным судом даже тогда, когда противоречит закону» [22]. То есть волостные суды обязаны были основывать свои решения исключительно на обычаях.
Первый председатель мордовского окружного суда правовед Т.В. Васильев (1928–1929) в своей монографии «Мордовия» (Центриздат, 1931 г.), анализируя обычаи и право древний мордвы, обращал внимание на то, как имущественные споры разрешал суд старейшин «атят». Авторитетные и мудрые люди выносили устное и окончательное решение. Главным преимуществом такого досудебного судопроизводства (атят) было отсутствие коррупции и произвола [3]. Совместное проживание в границах одной волости различных этносов и, как следствие, различие религий, местных обычаев каждого народа оказывали существенное влияние на формы проведения волостного судопроизводства. Каждый из них хотел вести свое этноправосудие. У православных в рамках волостного правосудия применялись различные формы «божьего суда», включая клятвенную присягу – «божба», «коли других доказательств нет» [18].
В Дракинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии в суде перед дачей показаний «божились» стороны по делу, в Краснослободском уезде Пензенской губернии к божбе прибегали и стороны, и свидетели [1].
Один из способов божбы в волостном суде записал исследователь В.Н. Тенищев: «Порази меня Господи, если вру. Убей меня Господи. Не допусти меня дожить до завтрашнего дня. Ослепи меня, Господи. Мать Пресвятая Богородица, разрази мою грешную утробу, если вру. Отсуши, Господи, мои руки и ноги. Лопни мои глаза и моё чрево. Отсохни язык. Провались я на этом месте. Почерней я, как земля. Не видать мне Божьего храма. Не видать мне белого света. Не видать мне детей своих» [1,17].
Напротив, в Стрелецкой волости Темников-ского уезда, где помимо мордвы и русских проживали татары-мишари, клятва «божба» в присутствии волостных судей как доказательство не применялась, по-видимому, из-за различий в религиозных верованиях, вследствие чего в случаях спора крестьян мордвы с мишарями одни не могли доверять клятвенным признаниям других. При этих обстоятельствах применялись иные обычно-правовые способы ведения волостного процесса – «грех-пополам» и «жребий» [1,17].
«Грех-пополам» – половинная ответственность сторон спора – применялся при недостаточности или отсутствии доказательств; отсутствии умысла виновного на вред; равной степени вины сторон; невозможности определения объема ущерба; длительности срока, прошедшего с момента причиненного вреда. «Жребий» судом применялся при разделе спорного крестьянского имущества. Крестьяне к «жребию» относились отрицательно, поскольку он «слеп и виноватого оправдать может» [14]. Этноправо волостного судопроизводства сталкивалось с необразованностью выборных, периодически меняющихся волостных судей, безграмотных в юридическом отношении. С.Ю. Витте отмечал, что в результате судебной реформы и создания обособленного от всех прочих сословий порядка управления «суда, в сущности, у крестьян не оказалось, а получилась грубая форма расправы в лице волостного суда» [16].
Процесс «сельского» судопроизводства в обычной деревенской избе запечатлел в работе «Волостной суд» (1888) известный петербургский художник, отец писателя-сатирика Михаила Зощенко Михаил Иванович Зощенко (1857–1907). Вот как изобразил один из критиков XIX века в еженедельном иллюстрированном журнале «Нива» «доморощенных» судей, рассматривающих ссору, учиненную крестьянами, пришедшими затем в волостной суд для разбирательства в сопровождении свидетелей и своих родственников: «лица всех четверых (судей) чрезвычайно типичны. Крайний слева, не полагаясь на себя, старается почерпнуть мудрость из расспросов свидетеля. За ним следует грозный судья, готовый перепороть всех баб, чтобы никому потачки не было; третий, довольно равнодушный к каждому из тяжущихся порознь, по-видимому, скорбит об суете мирской; а последний, наиболее разумный из всех, явно тщится вникнуть в дело, исследуя психологическую сторону каждого из тяжущихся по выражению их лиц. За столом строчит волостной писарь – эта неизбежная язва наших дней» [4].
С целью оптимизации нагрузки на судей, эффективного внедрения примирительных процедур, «укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, обеспечения преемственности исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России, уважения к ее историческому наследию» [20] следует переосмыслить роль юридических обычаев. Необходимо поддержать ученых-исследователей, которые предлагают конструктивно обсудить использование отдельных обычно-правовых институтов организации волостных судов в современной юстиции [1].