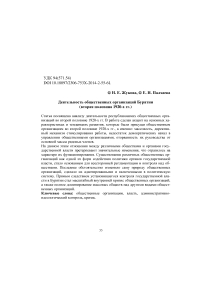Деятельность общественных организаций Бурятии (вторая половина 1920-х гг.)
Автор: Жукова Наталья Евгеньевна, Палхаева Елизавета Николаевна
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу деятельности республиканских общественных организаций во второй половине 1920-х гг. В работе сделан акцент на основных характеристиках и тенденциях развития, которые были присущи общественным организациям во второй половине 1920-х гг., а именно: массовость, директивный механизм стимулирования работы, недостаток демократических начал в управлении общественными организациями, оторванность их руководства от основной массы рядовых членов. На данном этапе отношения между различными обществами и органами государственной власти претерпевают значительные изменения, что отразилось на характере их функционирования. Существование различных общественных организаций как одной из форм содействия политики органов государственной власти, стало основанием для всесторонней регламентации и контроля над обществами. Последнее обстоятельство изменило саму природу общественных организаций, сделало их адаптированными и включенными в политическую систему. Прямым следствием установившегося контроля государственной власти в Бурятии стал масштабный внутренней кризис общественных организаций, а также полное доминирование массовых обществ над другими видами общественных организаций.
Общественные организации, власть, административно-идеологический контроль, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/148317363
IDR: 148317363 | УДК: 94(571.54) | DOI: 10.18097/2306-753X-2014-2-55-61
Текст научной статьи Деятельность общественных организаций Бурятии (вторая половина 1920-х гг.)
Одной из ведущих политических тенденций 20-х гг. ХХ в. стал процесс национально-государственного самоопределения народов молодого советского государства. В 1920-гг. процесс создания самостоятельной государственности у отдельных народов зашел далеко и возврата на обновленной основе не предусматривался [12]. Создание Бурят-Монгольской автономной республики, вхождение ее в правовое пространство РСФСР способствовало формированию общественных организаций, социалистических по форме и содержанию. Формирование общественных организаций в республике произошло позднее, чем в центральных районах страны, что было связано со становлением автономной государственности бурятского народа.
Во второй половине 1920-х гг. в республике завершается процесс создания общественных организаций, среди которых ключевую роль играли так называемые «массовые» общества – «Долой Неграмотность!», «Друзья Детей», Союз безбожников и другие. Созданные общества представляли отражение гражданской активности и инициативности населения, проявленной в первые годы после образования республики. Общей целью для всех общественных организаций было некое преобразование социальной и культурной действительности сообразно новым общественным идеалам и ценностям.
Безусловно положительный эффект имела работа республиканского общества «Долой неграмотность!», целью которого стала ликвидация неграмотности населения республики. Для достижения поставленной цели обществом проводились разнообразные мероприятия – «трехдневники» и «недели» лик- видации неграмотности, создавалась сеть ликпуктов, читались доклады и лекции. Достижения и недостатки работы ОДН изложены во вступительной части циркулярного письма «О работе на зимне-весенний период» в октябре 1927 г. В качестве положительных сторон работы отмечено создание пунктов ликвидации неграмотности, которые организовывались при инициативе и финансовой поддержке ячеек ОДН. Также отмечалось, что проведение агитационной работы, вызвало «заинтересованность рабоче-крестьянских масс в деле ликвидации неграмотности» [2, Л. 23].
Такое же положительное значение имела деятельность созданного в 1926 г. общества «Друзей Радио», которое имело при Дворце Труда в г. Верхне-удинске радиостудию, где проводились радиоконкурсы и радио концерты. В программе радиоконцертов было широко представлено национальное искусство, устраивались всевозможные конкурсы и вечера самодеятельности [9, С. 179].
Большую работу по изучению природных ресурсов Бурятии осуществляло научное общество им. Доржи Банзарова. Работа научного общества заключалась в проведении исследований флоры и фауны, геолого-минералогических изысканий, изучения производительных сил республики. Для организации научно-исследовательской работы в обществе были созданы физикоэкономическая, политико-экономическая и историко-этнографическая секции. В 1927 г. была образована секция школьного краеведения. Научным обществом для популяризации краеведческих знаний издавался совместно с Бурятским ученым комитетом журнал «Бурятиеведение», а также публиковались статьи в журнале «Жизнь Бурятии»[10, С. 25].
Следовательно, во второй половине 1920-х гг. ряд общественных организаций действительно способствовали развитию новых форм социального взаимодействия, а их цели¸ задачи и повседневная деятельность были направлены на решение многих общественно значимых проблем.
Однако не вся преобразовательная деятельность общественных организаций может быть оценена однозначно положительно. Существование отдельных обществ было продиктовано реализацией разнообразных государственных задач, идеологического обоснования политики правящей партии, в связи с чем эффективность их работы заметно снижалась. Ввиду того, что работа некоторых общественных организаций была рассмотрена подробно в ряде публикаций авторов [11], здесь следует обратить внимания на ключевые характеристики развития общественной сферы второй половины 1920-х гг.
Следствием партийно-государственной политики по отношению к общественным организациям стал их внутренний кризис, продолжившийся в течении всего рассматриваемого периода. Признаками этого кризиса стало повсеместное падение членской активности, отсутствие систематической внутренней работы и связи между республиканскими ячейками. Так, например, делегаты Тункинской аймачной конференции МОПРа в 1927 г. подчеркивали, что в ячейках «нет массовой работы. В некоторых ячейках по году не проводились 57
общие собрания. …Литература не распространена, лежит она в ячейках в хаотическом состоянии» [1, С. 4]. В протоколах заседаний Троицкосавской городской конференции МОПРа делегатом было отмечено, что «несмотря на целый ряд как письменных, так и устных указаний со стороны Айкома МОПРа [ячейки] работу совершенно не ведут, нет учета членов, членский взнос полностью не собирается, имеется задолженность, отсутствует воспитательная работа, к проводимым кампаниям относятся пассивно…» [3, Л. 28]. Деятельность организации поддерживалась с помощью проведения «Недель МОПРа», в рамках которых объявлялся денежный для заключенных капиталистических тюрем, отправлялись письма, телеграммы и воззвания пролетариату капиталистических стран против общих классовых врагов. Вместе с тем, это достигалось увеличением внутреннего административного влияния, а также определенного воздействия со стороны партийно-государственных органов
Внутренний кризис сопровождал и работу образованного в 1926 г. республиканского Союза Безбожников. Анализ протоколов заседаний и конференций дают представление об эпизодической работе ячеек союза, показывают явное нежелание населения принимать участие в антирелигиозной работе. В отчете заведующего агитационно-пропагандистским отделом Тункинского айкома ВКП(б) Найданова за 1928 г., содержатся сведения о несистемной работе союза, о том, что были проведены антирелигиозные вечера и антипасхальная кампания. В документе также указывалось, что «…директивы по этому вопросу на места были данные своевременно. Однако проведена известная работа только в Аймцентре, Коймарах и Тунке. В бурятских и смешанных районах никакой работы проведено не было» [4, Л. 45]. В качестве подведенного итога деятельности констатируется, что «ячеек СБ в аймаке фактически не существует. В аймцентре и то никакие меры не дают результатов» [там же].
О проблемах внутрисоюзной жизни писал в своем обращении к товарищам секретарь Союза А. Данилов: «… Все наши мероприятия по систематизации антирелигиозной работы в аймаках не увенчаются успехом. Даже после двулетнего существования Бурорганизации безбожников в областном Совете нет точных данных о количестве членов СБ и ячеек по отдельным районам, а также неизвестно что делается на местах во время антирелигиозных праздников» [5, Л. 74].
Причины откровенно слабой работы ячеек Союза безбожников делегаты практически всех аймачных конференций видели в отсутствии партийного руководства работой низовых ячеек. На совещании секретарей ячеек города Верхнеудинска 10 сентября 1928 г. отмечалась низкая активность членов партии в процессе деятельности союза и проведении «антирелигиозной кампании»: «Партийцы говорили, что нам эта работа не нужна, лишь только потому, что мы сами в бога не верим», и далее «…они очень халатно относятся к этому», «ввиду халатного отношения к своей работе членов СБ бывает очень трудно собрать собрание или бюро» [6, Л. 23]. Докладчик, председатель ячейки безбожников при Винскладе, назвал отсутствие результатов работы ячейки прямым следствием недостатка партийного руководства: «…Библиотеки и 58
уголка при ячейке не имеется. Работы никакой нет ввиду того, что нет партру-ководства со стороны партячейки» [там же]. Необходимо обратить внимание на тот факт, что большинство членов Союза были членами и кандидатами РКП(б) и ВЛКСМ демонстрирует явную неэффективность присутствия партработников в составе СБ.
Практика насаждения единственно верного атеистического мировоззрения, сочетаясь с применением методов административного принуждения, порождала формальное отношение населения к работе Союза. Постепенно в ситуации отсутствия идеологического выбора, жесткого всеохватывающего контроля над личностью, формировался определенный «общественный инфантилизм». Члены добровольной общественной организации, объясняя недостатки своей работы недостаточным партийным руководством, устраняли себя от активной общественной деятельности. Безусловно, в случае с необходимостью изменения традиционного религиозного мировоззрения, подобная общественная пассивность являлась оправданной, однако во второй половине 1920-х гг. она распространилась на все формы общественной самодеятельности.
Характерной чертой общественных организаций второй половины 1920-х гг. стало их функционирование как обществ «содействия социалистическому строительству». В этом качестве они мобилизовали народные массы для исполнения уже сформулированных государственной властью задач, двигаясь в заданном коридоре готовых решений. Большинство массовых организаций концентрировали общественную активность в ключевых направлениях политического и социального развития. Более того, все члены обществ были активными участниками политических кампаний. Например, в период выборов в городской Совет г. Верхнеудинска в 1928 г. республиканский МОПР поставил цель вовлечь всю массу членов в перевыборы в Советы. Работа МОПРа была построена под характерным для времени лозунгом: «Каждый член МОПР – активный участник в перевыборах в Советы!» [7, Л. 65]. Политизация общественных организаций¸ как и в целом общественной жизни, стала непременным атрибутом, символом происходивших преобразований.
Проявившейся к концу 1920-х гг. недостаток демократических начал в управлении общественными организациями, оторванность их руководства от основной массы рядовых членов также свидетельствуют о кризисе массовых обществ. Еще в 1927 г. в циркулярном письме «О работе на зимне-весенний период», адресованном обществу «Долой неграмотность!», подчеркивалась оторванность ячеек ОДН от крестьянских масс и, как следствие, отсутствие у последних интереса к работе общества, а также формальное отношение членов общественной организации к своим обязанностям [там же].
В общественно-политических условиях конца 1920-х гг. рост количества партийных членов в массовых организациях казался единственно верным способом стимулирования общественной активности и обязательным условием их существования. В 1928 г. председатель Верхнеудинского городского совета ОСОВИАХИМА констатировал ослабление работы общества, причину чего он 59
видел в том, что «парткомсомольские и профсоюзные организации до сего времени не уделяют должного внимания военной осохимовской работе, а подчас даже не интересуются ею» [8, Л. 45]. В качестве решения данной проблемы бурятский областной комитет ВКП(б) постановил «принять решительные меры к вовлечению 100% членов ВКП(б) и ВЛКСМ, а также работников и работниц госпредприятий в члены ОСОВИАХИМА» [там же]. К этому стоит добавить, что председателем почти всех обществ в разные годы избирался М.Н. Ербанов, а члены СНК Бурят-Монгольской АССР занимали ключевые позиции в общественных организациях.
Таким образом, развитие общественных организаций Бурят-Монгольской АССР во второй половине 1920-х гг. проходило в условиях нарастания партийно-государственного контроля, которая привела к доминированию в республике однотипных массовых общественных объединений, охвативших большинство населения. Сформированные общества, фокусировали общественную инициативу, приспосабливая ее к государственному видению функций советской общественности.
Государственный идеологический контроль, обозначив рамки проявления общественной инициативы, изменил природу существующих обществ. Добровольные массовые организации создавались при активном участии государственной власти, которая всецело регламентировала их деятельность, что стало главной причиной отчуждения населения от работы в них. Добровольные массовые общества являлись инструментом идеологического влияния партии, способом насаждения официальной идеологической концепции. Массовые организации стали частью механизма тотального, всеобъемлющего контроля над общественной жизнью, действуя в рамках единых централизованных структур, которыми было охвачено все общество снизу доверху.
Список литературы Деятельность общественных организаций Бурятии (вторая половина 1920-х гг.)
- Бурят-Монгольская правда // Верхнеудинск, 1927. -№ 59, от 18 марта. - С. 4.
- Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ) ФР-571. Оп. 1. Д. 2. Л.23.
- ГАРБ, Ф. Р-918. Оп. 1. Д.1а. Л. 28.
- ГАРБ. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 9. Л. 45.
- ГАРБ. Ф. Р-581. Оп. 1. Д. 24. Л. 74.