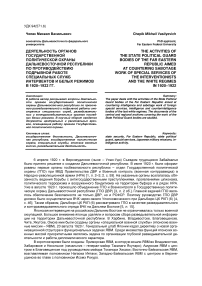Деятельность органов государственной политической охраны Дальневосточной Республики по противодействию подрывной работе специальных служб интервентов и белых режимов в 1920-1922 гг.
Автор: Чепик Михаил Васильевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 12, 2015 года.
Бесплатный доступ
В работе автор раскрывает вопросы деятельности органов государственной политической охраны Дальневосточной республики по пресечению разведывательной и подрывной работы иностранных специальных служб, разведывательных и контрразведывательных органов последних белых режимов. В научный оборот вводятся документы центральных и региональных архивов, освещающие работу органов Государственной политической охраны.
Государственная безопасность, дальневосточная республика, государственная политическая охрана, специальные службы, японские военные миссии, разведывательная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14937194
IDR: 14937194 | УДК: 94(571.6)
Текст научной статьи Деятельность органов государственной политической охраны Дальневосточной Республики по противодействию подрывной работе специальных служб интервентов и белых режимов в 1920-1922 гг.
6 апреля 1920 г. в Верхнеудинске (ныне - Улан-Удэ) Съездом трудящихся Забайкалья было принято решение о создании Дальневосточной республики. В июне 1920 г. были сформированы первые органы госбезопасности республики - отдел Государственной политической охраны (ГПО) при МВД Правительства ДВР и Военный контроль (военная контрразведка) в Народно-революционной армии (НРА) [1, л. 2-3; 2, с. 59]. На указанные органы возлагалась обязанность ведения борьбы с антигосударственными преступлениями, проявлениями шпионажа, политического терроризма и вооруженного бандитизма на территории буфера и в рядах НРА. Уже в августе 1920 г. произошло объединение ГПО и Военконтроля в Государственную политическую охрану Дальневосточной республики (ГПО ДВР) [3, л. 2 об.]. Главной задачей ГПО являлось обеспечение безопасности не только ДВР, но и РСФСР. Поэтому руководство ГПО ДВР должно было осуществляться ВЧК через своего Уполномоченного при Дальбюро ЦК РКП (б) [4, с. 46]. Таким образом, Дальбюро ЦК РКП (б) рассматривало ГПО в качестве разведывательного и контрразведывательного отряда ВЧК на Дальнем Востоке [5, л. 15].
Японская интервенция на российском Дальнем Востоке не ограничивалась только военной оккупацией. Большое внимание японцы уделяли и вопросам сбора разведывательной информации на территории Дальневосточной республики. В Харбине, Владивостоке, Благовещенске, Чите, Якутске, Омске ими были созданы органы «специальной военной службы» (японские военные миссии - ЯВМ). 20 августа 1920 г. Генеральный штаб Японии издал директиву о новой организационной структуре и функциональных задачах ЯВМ. Среди множества функций японских военных миссий приоритетными являлись задача по организации глубокой разведывательной деятельности и работа дипломатического характера.
В короткое время были созданы: Приморская ЯВМ, в которую вошли ЯВМ во Владивостоке, Хабаровске и Никольске (начальник - генерал-майор Таканаги Ясутаро); Амурская ЯВМ с центром в Благовещенске под руководством майора Токинори Хисаси; Восточно-Байкальская ЯВМ, возглавляемая полковником Нагаока Иятаки; Западно-Байкальская ЯВМ с центром в Верхне-удинске во главе с полковником Исомэ Рокуро.
Деятельность ЯВМ на территории Дальнего Востока России привела к созданию широкой агентурной сети, занимавшейся сбором информации по широкому кругу источников, обращая особое внимание на открытые материалы [6, д. 556. л. 24; 7; 8; 9]. Численность агентуры ЯВМ доходила до 4 тыс. чел. Особо следует выделить работу Харбинской ЯВМ по поддержке атамана Семенова, в которой проявились все уровни и направления деятельности ЯВМ – от международных отношений до поставок вооружения, оказания финансовой помощи, снабжения разведывательной и контрразведывательной информацией. ЯВМ стали средством, с помощью которого Япония проводила свою «нидзю гайко» (политику двойной дипломатии) – систему, когда Генеральный штаб и его разведорганы самостоятельно занимались формированием и реализацией внешнеполитического курса страны [10, с. 57]. В целях получения разведывательной информации и противодействия партизанским отрядам ЯВМ использовали под видом военных корреспондентов своих разведчиков, агентуру из числа участников китайских бандитских отрядов (хунхузов), японских граждан, проживавших на территории Дальнего Востока [11, л. 154а].
Японцы имели агентуру в каппелевских и семеновских частях [12, л. 11], с целью изучения Народно-революционной армии ДВР (НРА), системы ее обороны в Приморье и Приамурье. Японская военная миссия в Хабаровске занималась разведывательной деятельностью, собирала информацию о Народно-революционной армии и имела радиосвязь с Владивостоком. В пограничной зоне Китая действовали две группы японской военной миссии под руководством генерала Ямады и генерала Ватанабе. 5 июня 1921 г. заведующий Амурским отделение ДальТА Файнберг объявил члену японской военной миссии, аккредитованной в Благовещенске, майору Югаме об ограничении его поездок в китайский город Сахалян на правом берегу Амура (ныне – Хэйхэ) для получения и отправки корреспонденции. Такой мерой органы ГПО пытались сковать разведывательную деятельность японских военных дипломатов [13, с. 194].
Дальний Восток в те годы привлекал к себе пристальное внимание со стороны разведок многих иностранных государств, и не только Японии, но и Европы и даже Америки. Скажем, во Владивостоке работали агенты американской и даже польской разведки. Так, по полученной органами ГПО информации, в феврале 1921 г. из Токио во Владивосток прибыл бывший поручик русской армии Бальцер, ранее служивший в контрразведке, а затем перешедший в польское подданство и являвшийся заведующим осведомительным бюро в польском посольстве в Токио [14, л. 9, 13].
Американские разведчики действовали под видом работников Международного Красного Креста и организации «Маяк» – филиала американского Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), журналистов Американского бюро печати [15, с. 210]. Кроме того, эти организации вели большую идеологическую работу, наводнив с помощью земцев и кооператоров Сибирь и Дальний Восток своей агитационной литературой, фильмами, пропагандировали американский образ жизни и т. д. [16].
Для прикрытия ведения разведывательной деятельности американские разведчики использовали представительства коммерческих организаций. Так, представитель американской фирмы «Роберт Доллар» во Владивостоке Гринберг работал в тесном контакте с известным разведчиком майором Феймовиллем. Совершая поездки по территории Дальнего Востока, через своего секретаря, ранее служившего в Красной армии и имевшего связи с командным составом НРА, Гринберг получал информацию о деятельности вооруженных сил ДВР [17, л. 30]. В октябре 1921 г. в Пекин по поручению американского правительства прибыл консул США Колдуэлл, который был делегирован в Читу и пробыл там несколько месяцев [18, л. 70]. Разведывательную деятельность на территории ДВР осуществляли и английские разведчики. К примеру, арестованный в июле 1921 г. английский разведчик Сесил Хенри показал, что Британские военные миссии использовали несколько категорий агентов для получения разведывательной информации: 1) агенты для особо важных поручений, имевшие связь только с Дальним Востоком; 2) агенты по Сибири, контактировавшие с агентурой России, ДВР и Японии [19, л. 44–45].
В ведении разведки на территории ДВР не отставали от иностранцев и белогвардейцы – каппелевцы и семеновцы. В разное время в Хабаровске ГПО были ликвидированы несколько разведывательно-диверсионных групп, которые подчинялись разведке атамана Семенова [20, с. 85]. Как установило следствие, белогвардейские разведчики поддерживали связь с Харбином через владелицу мастерской по пошиву дамских шляп. Оказалась раскрытой и группа во главе с владельцем ресторана Феофановым [21, л. 70–74]. Летом 1921 г. ГПО ликвидировало группу, действовавшую от имени Дальневосточного крестьянского казачьего национального комитета, на создание которого Семеновым было выделено 2 млн руб. золотом. Члены указанной группы занимались сбором разведывательной информации различного характера и подготовкой террора в городе [22, л. 32].
Особенно пристальное внимание иностранных разведок уделялось вооруженным формированиям Дальневосточной республики. Органами военной контрразведки НРА только в 1921 г.
было разоблачено несколько иностранных агентов в рядах армии, завербованных японцами и белогвардейцами. В Хабаровске в начале февраля 1921 г. была вскрыта подпольная организация белых офицеров в штабе 2-й Народно-революционной армии. В нее входили и крупные военные чины – помощник начальника разведотделения штаба бывший штабс-капитан Федоров-Брюханов, начальник оперативного отделения Невяский, сотрудник для особых поручений ГПО Богдановский и т. д.
Подобную подпольную белогвардейскую организацию в апреле 1921 г. Госполитохрана раскрыла и в Верхнеудинске. Заговорщики, опять же из числа бывших офицеров царской армии, ставили далеко идущие цели – одновременно с выступлением белогвардейцев во Владивостоке поднять восстание в Верхнеудинске, а затем, в случае успеха, отделить Прибайкалье от ДВР [23].
В Троицкосавском районе весной 1921 г. существовали две подпольные монархические организации, которые по информационной сводке подотдела ГПО в ГУ ГПО состояли «почти сплошь из бежавшего из Маймачена офицерства. Отношение их к Народно-революционной армии и коммунистической партии враждебное. Агитация почти совершенно не ведется, так как все члены организации между собой тесно связаны, а привлекать новых членов боятся, так как опасаются провала» [24, л. 3].
В декабре 1921 г. в г. Свободном была ликвидирована группа, возглавляемая представителями эсеров и связанная с белогвардейскими организациями, находящимися в г. Сахаляне, и через них с генералом Сербиновичем [25, л. 7].
Разведывательную информацию собирали и агенты барона Унгерна, которые засылались не только в ДВР, но и в РСФСР. Так, вся информационная работа по Забайкалью велась бывшим офицером армии Унгерна Большаковым для выяснения положения частей Красной армии, НРА, а именно – состав, количество и место расположения таковых [26, л. 20]. Белогвардейская агентура работала также под прикрытием организации Красного Креста [27, л. 17].
26 мая 1921 г. во Владивостоке в результате так называемого «меркуловского переворота» к власти в Приморье пришел Совет Союза несоциалистических организаций, который объявил себя Временным Приамурским правительством (ВПП).
По подсказке японцев, активно способствовавших перевороту, новая белая власть в своих интересах занялась формированием аппарата разведки и контрразведки. Спецслужбам Временного Приамурского правительства в инструкции по разведывательной работе ставились конкретные задачи: 1) изучать взгляды населения; 2) собирать сведения о войсках НРА через своих разведчиков, а также местных жителей и завербованных народоармейцев; 3) создавать тайные ячейки; 4) распространять литературу, сведения и слухи, вредящие правительству ДВР и Советской России [28, л. 3].
Известно, что Временное Приамурское правительство активно готовило свержение законной власти в лице Дальневосточной республики. Чтобы добиться этой цели, Меркуловым и его сообщниками в пограничные с ДВР районы для формирования тайных ячеек, ведения разведывательной работы, выяснения состояния НРА, агитации в воинских частях ДВР и возбуждения ненависти населения к власти [29, л. 516] были направлены свои представители.
В сложных условиях Гражданской войны не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири активизировалась деятельность уголовных элементов, которые оказывали дестабилизирующее влияние на оперативную обстановку на территории ДВР.
Так, в период наступления каппелевцев, в ДВР было зарегистрировано 20 банд, общим количеством более 600 чел. Банды в Сибири и банды в ДВР, по информации ГПО, координировали свои разбойные действия. Связь между ними осуществляли доверенные агенты. Они передвигались по железным дорогам, а явки были на японских квартирах в Чите [30, л. 45; 31, л. 89–90; 32, л. 5].
Однако и в таких трудных условиях военного положения спецслужбы ДВР продолжали успешно работать и бороться с разведывательной деятельностью противника. К несомненным успехам спецслужб ДВР можно отнеси тот факт, что еще в октябре 1921 г. харбинской резидентуре ДВР удалось приобрести секретные документы Временного Приамурского правительства, а также часть семеновского архива [33, л. 13].
В декабре 1921 г. сотрудники ГПО осуществили еще одну успешную операцию. Им удалось вывезти из Сахаляна и тайно переправить через границу в Благовещенск есаула Бетенева – руководителя нескольких белобандитских групп.
Конечно, японская и белогвардейская разведка тоже прилагала усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в приграничных районах с ДВР. К примеру, по данным агентуры ГПО, саха-лянская организация Сычева имела информаторов во многих учреждениях ДВР [34, л. 29].
В мае 1922 г. по приказу Меркулова генерал-майор Забайкальского казачьего войска И.Ф. Шильников приступил к формированию белых партизанских отрядов, а в городах и селах начал создавать боевые организации. Как результат, уже в начале мая 1922 г. на территорию ДВР вышло семь банд численностью 7–10 чел. каждая [35, л. 18].
Понятно, что без надлежащей финансовой помощи со стороны японцев и меркуловского правительства осуществлять подрывную деятельность против ДВР было бы не так просто. Поэтому правительство белого Приморья оказывало финансовую поддержку генералам Шильникову и Сычеву. Так, к примеру, в свое время ГПО ДВР по информации, полученной от японского источника, стало известно, что японской миссией из сумм, не подлежащих учету, генералу Сычеву только в июле 1922 г. было выделено 23 тыс. руб. золотом. Предположительно источник их происхождения – мер-куловское правительство [36, л. 38]. Не отставали в этом вопросе и китайские власти. Так, правитель Северо-Восточного Китая Чжан Цзолинь заключил секретное соглашение с Далай Ламой о помощи белогвардейцам на случай их выступления против ДВР [37, л. 7].
Летом 1922 г. обстановка была накалена до предела. Налеты на территорию ДВР так называемых «белопартизанских» групп стали настолько частыми, что китайские власти по настоятельным требованиям МИД ДВР и представительств на КВЖД в августе 1922 г. вынуждены были прибегнуть к аресту генерала Шильникова и полковника Гуркова.
Со своей стороны агентура ДВР в Маньчжурии тоже предпринимала активные контрразведывательные действия, чтобы уяснить планы японской и белогвардейской разведки в отношении Дальневосточной республики. Удачной оказалась операция, в ходе которой работникам представительства ДВР на ст. Маньчжурия с помощью чекистов и китайского дипломатического комиссара, который тайно помогал им, удалось заполучить чемодан генерала Шильникова, в котором находились ценные документы. Правда, из-за халатности уполномоченного ДВР Б.А. Похвалин-ского некоторые ценные бумаги оказались утраченными. Однако и на основе оставшихся документов, путем их анализа и дешифровки, ГПО удалось получить ценные сведения о планах белогвардейцев и об их связях с ЯВМ [38, л. 100–111, 115].
В этот же период усилиями сотрудников ГПО были установлены конкретные лица из числа сотрудников государственных учреждений Дальневосточной республики, которые передавали японцам и белогвардейцам информацию о военном, экономическом и финансовом состоянии ДВР, раскрыта разветвленная агентурная сеть, предотвращены готовящиеся мятежи, диверсии на промышленных и военных объектах, покушения на руководителей Дальневосточной республики.
Таким образом, Государственная пограничная охрана Дальневосточной республики в результате успешной работы своих сотрудников в 1920–1922 гг. сумела раскрыть и пресечь деятельность десятков больших и малых подпольных белогвардейских вооруженных организаций, собственными силами разгромила более пятидесяти банд и ликвидировала шпионскую сеть японских и других зарубежных спецслужб.
В сложных условиях существования буферной Дальневосточной республики, реальной оккупации территории ДВР 100-тысячной японской армией, труднейших экономических и финансовых условиях, в трудной военно-политической обстановке Государственная политическая охрана ДВР, руководимая Дальбюро ЦК РКП (б), успешно выполняла возложенные на нее задачи по противодействию подрывной деятельности иностранных и белогвардейских спецслужб. Вместе с Народно-революционной армией и милицией ГПО внесла свой весомый вклад в освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов.
Государственной политической охраной ДВР в 1920–1922 гг. была приобретена огромная практика ведения контрразведывательной деятельности, направленной на борьбу с иностранными и белоэмигрантскими спецслужбами на Дальнем Востоке. Этот бесценный опыт сотрудников специальных служб Дальневосточной республики лег в основу работы последующих поколений дальневосточных чекистов по противодействию иностранным и белогвардейским разведкам в годы существования советской власти.
Ссылки:
-
1. РГАСПИ (Рос. гос. арх. соц.-полит. ист.). Ф. 372. Оп. 1. Д. 1185. Л. 2–3.
-
2. Авдеева Н.А. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке в 1921 г. и ее влияние на действия Народнореволюционной армии Дальневосточной республики // Вопросы истории Дальнего Востока. Bып. V. Хабаровск, 1975.
-
3. РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1185. Л. 2 об.
-
4. Сонин В.В. Правовой статус Государственной политической охраны Дальневосточной республики (1920–1922 гг.) // Органы государственной безопасности Приморья: Взгляд в прошлое во имя будущего. Владивосток, 2003.
-
5. РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.
-
6. ГАХК (Гос. арх. Хабар. края). Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Л. 9, 13.
-
7. Звонарев К. Японская разведывательная служба. М., 1934.
-
8. Малышев В.П. Борьба за власть Советов на Амуре. Благовещенск, 1961.
-
9. Японский шпионаж в царской России : сб. док. М., 1944.
-
10. Полутов А.В. Работа японских военных миссий против России и СССР на Дальнем Востоке в 1916–1945 гг. // Органы государственной безопасности Приморья: Взгляд в прошлое во имя будущего. Владивосток, 2003.
-
11. ГАХК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 106в. Л. 154а.
-
12. ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Л. 11.
-
13. Авдеева Н.А. Указ. соч. С. 194.
-
14. ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Д. 9, 13.
-
15. Ципкин Ю.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке России: формирование антибольшевистских режимов и их крушение (1917–1922 гг.). Хабаровск, 2012.
-
16. Привалова Е.А. В союзе с белогвардейской прессой: Американское бюро печати в Советской России (1917–1920 годы). М., 1990.
-
17. ЦА ФСБ РФ (Центр. арх. Федер. службы безопасности РФ). Ф. 1. Оп. 1. Пор. 534. Л. 30.
-
18. ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 144. Л. 70.
-
19. ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 109. Л. 44–45.
-
20. Ципкин Ю.Н. Указ. соч. С. 85.
-
21. РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1176. Л. 70–74.
-
22. ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 200. Л. 32.
-
23. Дальневосточный путь. 1922. 11 мая.
-
24. ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 283. Л. 3.
-
25. ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 1. Пор. 551. Л. 7.
-
26. Там же. Оп. 6. Пор. 119. Л. 20.
-
27. Там же. Пор. 552. Л. 17.
-
28. Там же. Пор. 264. Л. 3.
-
29. ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 270. Л. 516.
-
30. ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 600. Л.45.
-
31. Там же. Оп. 6. Пор. 264. Л. 89–90.
-
32. Там же. Пор. 552. Л.5.
-
33. Там же. Пор. 254. Л.13.
-
34. Там же. Пор. 200. Л.29.
-
35. Там же. Пор. 264. Л.18.
-
36. Там же. Л. 38.
-
37. Там же. Пор. 552. Л.7.
-
38. РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 552. Л. 100–111, 115.
Список литературы Деятельность органов государственной политической охраны Дальневосточной Республики по противодействию подрывной работе специальных служб интервентов и белых режимов в 1920-1922 гг.
- РГАСПИ (Рос. гос. арх. соц.-полит. ист.). Ф. 372. Оп. 1. Д. 1185. Л. 2-3.
- Авдеева Н.А. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке в 1921 г. и ее влияние на действия Народно революционной армии Дальневосточной республики//Вопросы истории Дальнего Востока. Вып. V. Хабаровск, 1975.
- РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1185. Л. 2 об.
- Сонин В.В. Правовой статус Государственной политической охраны Дальневосточной республики (1920-1922 гг.)//Органы государственной безопасности Приморья: Взгляд в прошлое во имя будущего. Владивосток, 2003.
- РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.
- ГАХК (Гос. арх. Хабар. края). Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Л. 9, 13.
- Звонарев К. Японская разведывательная служба. М., 1934.
- Малышев В.П. Борьба за власть Советов на Амуре. Благовещенск, 1961.
- Японский шпионаж в царской России: сб. док. М., 1944.
- Полутов А.В. Работа японских военных миссий против России и СССР на Дальнем Востоке в 1916-1945 гг.//Органы государственной безопасности Приморья: Взгляд в прошлое во имя будущего. Владивосток, 2003.
- ГАХК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 106в. Л. 154а.
- ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Л. 11.
- ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 625. Д. 9, 13.
- Ципкин Ю.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке России: формирование антибольшевистских режимов и их крушение (1917-1922 гг.). Хабаровск, 2012.
- Привалова Е.А. В союзе с белогвардейской прессой: Американское бюро печати в Советской России (1917-1920 годы). М., 1990.
- ЦА ФСБ РФ (Центр. арх. Федер. службы безопасности РФ). Ф. 1. Оп. 1. Пор. 534. Л. 30.
- ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 144. Л. 70.
- ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 109. Л. 44-45.
- РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1176. Л. 70-74.
- ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 200. Л. 32.
- Дальневосточный путь. 1922. 11 мая.
- ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 283. Л. 3.
- ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 1. Пор. 551. Л. 7.
- ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 270. Л. 516.
- ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 5. Пор. 600. Л. 45.
- РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 552. Л. 100-111, 115.