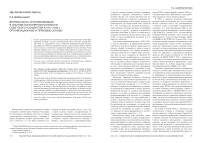Деятельность органов милиции в системе исполнительной власти советского государства в 1917-1930 гг.: организационные и правовые основы
Автор: Шабельникова Наталья Алексеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 1 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются политические условия и организационные основы формирования милиции в системе исполнительной власти советского государства в 1917-1930 гг., определяются этапы становления правоохранительной системы, анализируются особенности правовой политики, дается оценка основных теоретических подходов к изменению государственно-правового статуса милиции. Автор обращает внимание на то, что в изучаемый период времени и в период последующего развития государства правовая политика строилась исключительно на основе политической целесообразности. Милиция как часть государственного аппарата не только концентрировала функции надзора и принуждения, но и осуществляла непосредственное подавление выступлений противников политической системы.
Милиция, советское государство, уголовный розыск, правовая политика, нквд, государственный аппарат, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/170175476
IDR: 170175476 | УДК: 947.084.51.66351.74(571.6)
Текст научной статьи Деятельность органов милиции в системе исполнительной власти советского государства в 1917-1930 гг.: организационные и правовые основы
Взаимосвязь политического режима и полиции (милиции) в любой стране очевидна и бесспорна. В тоталитарном государстве она стоит на страже тоталитаризма, в демократическом - защищает ту форму демократии, которую предпочитает общество. Сложность и в то же время значимость по ложения полиции (милиции) состоит в том, что, с одной стороны, являясь государственным исполнительным органом власти, она должна быть инструментом реализации политики государства в вопросах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью и правонарушениями.
С другой стороны, являясь органом государства, призванным защищать безопасность благосостояния граждан, она должна противостоять негативным явлениям в обществе, вызванным издержками реализации этой политики, зачастую не приемлемыми для определенной части общества [9, с. 36]. Следовательно, милиция вынуждена, с одной стороны, соблюдать интересы и требования политиков, а с другой - интересы и потребности общества и населения. В 1920-е гг. в советском государстве милиция находилась как бы между двух огней, т.е. была одновременно подчинена и государству, и обществу
Сам термин «правовая политика» в 1920-1930-е гг. еще не применялся. В официальной юридической речи в ходу были термины «карательная политика», «борьба за развитие и защиту социалистической законности» и т.п. Однако, поскольку в советском обществе в тот период право существовало (ибо ни одно государство не обходится без правовой системы), вырабатывалось и определенное отношение к нему со стороны властных структур, т.е. политика в области права со своими положительными и отрицательными сторонами. Исходя из этого отечественными юристами признавалось допустимым употребление по отношению к тому времени понятия «правовая политика», причем оно было тождественно понятию «партийно-государственная политика в области права».
Категория «правовая политика» обозначает специфическую регулятивно-охранительную систему, сочетающую юридическую теорию и практику. В советском государстве, в т.ч. в 1920-е гг, правовая политика была направлена, во-первых, на юридическое закрепление и защиту властноуправляемой системы, т.е. служила политическому режиму, а во-вторых, на правовое регулирование функционирования этой системы, т.е. устанавливала правовые барьеры для злоупотреблений со стороны представляющих ее субъектов (государственных органов, ведомств и должностных лиц). Исторический опыт показывает, что служба политическому режиму в правовой политике являлась основной по отношению ко второму ее аспекту, т.е. правовая политика формировалась в соответствии с директивами партии [16, с. 15].
Исследуемый период имел несколько этапов: милитаризация милиции в период интервенции и Гражданской войны; последующий постмилитари-зационный период, во время которого в правовых актах, регламентирующих прохождение службы в милиции, сохранились лишь отдельные черты военной службы, когда на работников милиции и уголовного розыска распространялись некоторые нормы КЗОТ; и период второй половины 1920-х гг, в который происходит приближение статуса работника милиции к статусу военнослужащего.
В 1920-е гг. правовое положение сотрудников милиции менялось несколько раз. Если в первые месяцы советской власти они рассматривались в качестве одной из категорий государственных служащих, то в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции, согласно декрету СПК РСФСР от 3 апреля 1919 г. «О советской рабоче-крестьянской милиции», уже в качестве лиц, приравненных к статусу военнослужащих. Декретом В ЦИК и СНК РСФСР от 19 июня 1920 г. «О рабоче-крестьянской милиции» ей придавалось «значение вооруженных частей особого назначения», вводилось обязательное военное обучение своего строевого состава по программе подготовки командиров взводов. Народный комиссариат по военным делам мог привлекать в действующую Красную армию до 20% личного состава [18, ст. 371]. В Положении об НКВД РСФСР 1922 г. закреплялось следующее: «Состоящие на службе в милиции считаются мобилизованными и призываются в ряды Красной Армии по особому каждый раз соглашению Наркомвоенведа и НКВД» [19, с. 386].
Окончание Гражданской войны и интервенции повлекло за собой утрату милицией статуса одного из вооруженных отрядов диктатуры пролетариата и ее превращение в административно-исполнительный орган Советов, призванный активно проводить на местах новую экономическую политику, что отразилось на правовом положении работников. С частичным распространением на личный состав милиции норм КЗОТа они стали рассматриваться не только в качестве военнослужащих. Однако со второй половины 1920-х гг. НКВД РСФСР в подготавливаемых им проектах нормативных актов высших органов власти и управления, приказах, циркулярах, письмах последовательно проводил линию на постепенный вывод строевого состава милиции и уголовного розыска из-под юрисдикции КЗОТа и приближение статуса работника милиции к статусу военнослужащего.
Во второй половине 1920-х гг. наметилось два теоретических подхода к изменению государственно-правового статуса милиции. Первый был связан с кадровыми проблемами, имевшими место в органах милиции. На IX Всероссийском съезде Советов прозвучало предложение о ликвидации милиции, так как «милиция у нас занимается исключительно пьянством и взяточничеством», в связи с этой и другими проблемами предлагалось «милиционную службу возложить на само население» (Российский государственный архив со- циально-политической истории (ГАРСПИ) Ф. 94. Оп. 2. Д. 5. П. 54.).
Комиссией ЦКК-РКИ была проведена проверка деятельности органов милиции, в ходе которой было обращено внимание на необходимость усиления внимания к охране общественного порядка и более широкому привлечению трудящихся к этому процессу. В постановлении Президиума ЦКК ВКП(б) и коллегии НК РКП предлагалось организовать на выборных началах участие рабочих, крестьян и служащих в непосредственном выполнении возлагаемых на милицию обязанностей по охране общественного порядка. Как видно из содержания решения, оно предусматривало введение милиционной повинности для граждан [2, с. 1].
Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции от 12 октября 1918 г. предусматривала создание штатного аппарата милиции. Но это рассматривалось как временная мера, вызванная чрезвычайными условиями Гражданской войны. Предполагалось, что в дальнейшем в этой сфере будут преобладать общественные формы. Инструкция была принята при жизни В.И. Ленина, который полагал, что можно временно отказаться от принципа всеобщего вооружения народа - принципа, с которым Коммунистическая партия шла к социалистической революции. К тому же в конце 1920-х гг, вследствие быстрых темпов индустриализации и коллективизации, идеи победоносного развертывания международной пролетарской революции буквально витали в воздухе. Это подготовило постановку вопроса о замене штатного аппарата милиции представителями общественности [8, с. 85].
Привлечение населения к исполнению работы милиции нашло выражение в различных организационных формах (дружины, сельское исполнительство, комиссии, десятидворцы, квартальные и т.д.) и основывалось на идеях пролетарской милиции и многовековом опыте общинной организации жизни. Наиболее полно это выразилось в попытке введения так называемой милиционной системы [13, с. 128-129]. Весной 1928 г. сменивший А. Белобородова новый нарком внутренних дел В. Толмачев на состоявшемся 8 марта 1928 г. заседании коллегии НКВД РСФСР остановился на мерах, которые могли бы поднять работу милиции на более высокий уровень. Исходя из положения о том, что «милиция не есть институт кадровый, а организация, имеющая переменный состав», он полагал возможным начать применение милиционной системы. Было решено провести опыт в крупных городах, привлекая на определенный срок на работу в милицию членов профсоюза [1, с. 68].
На съезде административных работников в 1928 г. была выдвинута так называемая идея милиционной системы, которая в практической деятельности планировалась как выборная рабочая милиция. В докладе В. Толмачева, настаивавшего на скорейшем введении милиционной системы, предлагалось оставить небольшой штат постоянных кадровых работников, а основной состав -переменный - комплектовать из представителей трудовых коллективов, которые в порядке общественной повинности будут исполнять возложенные на них обязанности [7, с. 18-19].
Суть милиционной системы заключалась в следующем: в порядке общественной работы с предприятий и учреждений через профсоюзы выделялись трудящиеся, которые прикреплялись на непродолжительный срок - одну-две недели или месяц - на постоянную работу в милицию для выполнения обязанностей по некоторым, не требующим особой квалификации, должностям - постового милиционера, дежурного по отделению и др. Члены рабочей милиции избирались на общих собраниях рабочих и выполняли постоянную работу на общественных началах. Планировалось, что «выборная рабочая милиция явится средством вовлечения и контроля трудящихся за деятельностью милиции и одновременно резервом для пополнения ее рядов» [6, с. 44]. В случае реализации данного предложения милиция как постоянный государственный орган прекратила бы свое существование.
Сторонники милиционной системы, предлагая данную идею к внедрению, полагали, что в масштабах страны имелся опыт смешанной организации армии, введенный военной реформой 1924-1925 гг, по которому наряду с небольшой кадровой армией создавались переменные территориально-милиционные части на основе всеобщей повинности. Кроме того, существовали части особого назначения (ЧОН), имевшие большое значение в охране общественного порядка, в борьбе с контрреволюционными выступлениями и политическим бандитизмом в 1921-1924 гг., которые организационно также подразделялись на кадровый и милиционный состав.
30 августа 1928 г. на заседании коллегии НКВД РСФСР обсуждался вопрос о выполнении постановления Президиума ЦКК и Коллегии НК РКП СССР от 22 июня 1928 г, директив Второго Всероссийского съезда административных работников, где вновь поднимался вопрос о необходимости скорейшего перехода к милиционной системе. Осенью 1929 г. НКВД РСФСР подготовил и внес в республиканский Совнарком проект постановления о мерах улучшения работы милиции и уголовного розыска. Отмечая успех опыта организации обществ содействия милиции и считая их одной из главных переходных форм к милиционной системе, проект предполагал ее осуществление в 1929-1930 гг. в некоторых округах. Однако, несмотря на все попытки, на практике идея милиционной системы так и не была воплощена в жизнь. Начальник управления милиции РСФСР И.Ф. Кисилев, являвшийся одним из инициаторов ее введения, был вынужден, хотя и с оговорками, признать в начале 1930 г. эту идею несостоятельной [3, с. 24].
И все-таки проект введения милиционной системы, видимо, по инерции некоторое время продолжал реализовываться. В июле 1930 г. нарком внутренних дел РСФСР в докладе Совнаркому о состоянии и работе рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, отметив значительный рост обществ содействия милиции и уголовному розыску, связал это с развитием милиционной системы. Характерно, что при обсуждении проекта Положения о рабоче-крестьянской милиции 30 октября 1930 г. на заседании Президиума ВЦИК также были одобрены меры по переходу к милиционной системе и предусмотрено начать ее проведение в нескольких промышленных городах в 1930-1931 гг. Однако в окончательном варианте Положения о рабоче-крестьянской милиции, утвержденного СПК СССР 25 мая 1931 г, эти меры были преданы полному забвению, и даже добровольные общества содействия милиции упоминаются в нем вне всякой связи с милиционной системой.
Таким образом, милиционная повинность насаждалась руководством НКВД РСФСР сверху и фактически была реакцией на неэффективность штатной государственной милиции. Основная причина того, что милиционная повинность не прижилась, заключалась в том, что для этой системы не существовало глубоких основ ни в экономической, ни в политической, ни в духовной сферах жизнедеятельности общества и государства.
Более действенной формой участия граждан в охране общественного порядка стали общества содействия милиции (ОСОДМИЛ). Милиция осуществляла оперативное руководство ОСОДМИ-Лом, инструктирование его членов. Последние в свою очередь оказывали содействие органам милиции и уголовного розыска путем непосредственного выполнения отдельных поручений в области нарушений общественного порядка.
Общества содействия милиции и уголовному розыску в короткий срок получили большое распространение. В 1930 г. в РСФСР имелось 4000 ячеек ОСОДМИЛа, насчитывающих 45 000 членов [4, с. 101]. Для организации борьбы с хулиганством и другими преступными действиями, в т.ч. в сель ской местности, в Приамурье к началу 1930-х гг. было создано 102 бригады содействия милиции, в которых работало 883 человека. Во Владивостоке в ноябре 1930 г. было организовано 13 ячеек, а через год в них уже состояло около 400 человек (Государственный архив Приморского края (ГАЛК) Ф. 85. Он. 1 .Д. 13.Л. 27.). В начале 1930-х гг. общества содействия милиции была реорганизованы в бригады содействия милиции [15, ст. 324].
Второй подход к изменению государственно-правового статуса милиции заключался в организационном объединении с одним из правоохранительных органов - Наркоматом юстиции или ОГПУ. Именно этот путь и был реализован в начале 1930-х гг. посредством передачи милиции в ведение ОГПУ. На основании секретного постановления ЦИК и СНК «О руководстве органов ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска» ОГПУ СССР и его местные органы получали право не только назначения, перемещения и увольнения руководящих работников уголовного розыска и милиции, их инспектирования и контроля, но и использования в своих целях гласного состава и негласной сети милиции и уголовного розыска, их возможностей в области дактилоскопии и фотографии [10, с. 279]. 15 декабря 1930 г. было принято волевое решение - ликвидация наркоматов внутренних дел в республиках постановлением ЦИК и СНК СССР «О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик» [14, ст. 640]. Принятие данных постановлений означало, что на ОГПУ СССР возлагалась обязанность по руководству милицией и уголовным розыском.
В конце 1931 г. подобные взаимоотношения милиции и органов ОГПУ были «легализованы» путем создания в составе ОГПУ СССР Главной инспекции по милиции и уголовному розыску, а в республиканских, краевых и областных органах ОГПУ - особых инспекций по милиции и уголовному розыску. Так были обеспечены строгая централизация руководства милицией и ослабление ее связей с органами власти различного уровня, те. произошло то, к чему ОГПУ стремилось еще в 1920-е гг. и что отвергалось как несоответствующее Конституции [13, с. 141].
В мае 1931 г. ЦИК и СНК СССР утвердили общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции, которое впервые за время существования советского государства юридически закрепило единые задачи органов внутренних дел в масштабе страны, общие принципы их организации [12, с. 18]. Положением устанавливался «статус милиции как единой, предельно централизованной, жестко вертикальной структуры» [17, с. 69].
Положение о рабоче-крестьянской милиции послужило основой для Положения о прохождении службы, временного Устава службы, Положения о Главном управлении РКМ при СПК РСФСР и Дисциплинарного устава. Этими документами регламентировалась деятельность органов милиции и уголовного розыска как централизованной структуры. Но нередко в своей оперативной деятельности они руководствовались не циркулярами и распоряжениями вышестоящих органов, а предписаниями партийных комитетов, формально исходившими от органов государственной власти. Именно в 1930-е гг. появился уникальный в своем роде порядок принятия законодательных актов в виде совместных постановлений ЦК партии и органов государственной власти.
В конце 1920-х - начале 1930-х гг. сложилась и получила закрепление система «двойного», а фактически, «тройного» законодательства. С одной стороны, формально деятельность органов НКВД определялась нормативными актами: постановлениями ВЦИК и СПК РСФСР, распоряжениями и приказами соответствующих управлений Наркомата внутренних дел, с другой - постановлениями местных органов власти, а главное - директивными указаниями партийных структур, чьи решения могли носить антиправовой характер. Следование указаниям партийных органов означало, что органы, наделенные функциями охраны установленных законом общественных отношений, становились на путь их нарушения.
В юридической литературе конца 1920-х гг. было распространено утверждение о том, что Республика Советов уже есть правовое государство. Однако одновременно с предпринятым сталинским руководством «великим переломом» по этой концепции правоведов был нанесен сокрушительный удар. 4 ноября 1929 г, в своей речи в Институте советского строительства секретарь ЦК ВКП(б), кандидат в члены политбюро Л.М. Каганович выступил с критикой самой идеи правового государства: «Если человек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие «правового государства» к советскому государству, то это значит, что он... отходит от марксистско-ленинского учения о государстве» [11, с. 9].
На рубеже 1920-х - начала 1930-х гг, в соответствии с взятым руководством страны курсом на мобилизационное развитие экономики и «борьбу с классово-чуждыми элементами», политика в области права получила дальнейшее ужесточение. Звучали призывы отбросить «мягкотелость», «гуманность» и «открыть истребляющий огонь по обнаглевшему классовому врагу», «по-большевистски творить расправу над социально-враждебными элементами» [5, с. 6].
Вторая сессия ВЦИК 12-го созыва приняла Уголовный кодекс РСФСР, который оказался самым жестким за всю историю законодательства. В кодексе значилось 46 «расстрельных» статей. 58-я содержала 14 пунктов, десять из них в качестве наказания предусматривали высшую меру - смертную казнь. Не существовало таких деяний, которые бы не покрывала собой 58-я статья. Те, кто приговаривался по одному из десяти пунктов к расстрелу, не имели права подавать ходатайство о помиловании в ЦИК. Партийные комитеты на местах, выполняя директивы центра, требовали от правоохранительных органов принятия «суровых репрессий в отношении сопротивляющихся мероприятиям классовых врагов». Выдвигались предложения расширить признаки состава преступлений по статьям 58-8 (о приготовлении терактов) и 58-10 (об антисоветской агитации), поскольку в условиях усиления классовой борьбы существующие процессуальные нормы применительно к этим преступлениям «объективно играли роль защитника классового врага».
Логическим завершением реформы административно-политической системы стало создание в июле 1934 г. единой общесоюзной системы органов внутренних дел - Народного комиссариата внутренних дел СССР. Возрастание роли органов НКВД в жизни общества было обусловлено задачами дальнейшего государственного строительства, стоящими перед властными структурами, и методами, которыми предполагалось их реализовать. В результате свертывания новой экономической политики и поворота к форсированной индустриализации и насильственной коллективизации страны гражданско-правовые методы руководства подменялись административно-командными, усилилась бюрократизация аппарата. Реальная власть концентрировалась в руках узкой группы людей. В этих условиях правоохранительные органы приобрели функции репрессивных и стали важнейшими звеньями установившегося режима. Этому процессу способствовала социалистическая теория и практика, предполагавшая принуждение как одно из основных средств осуществления социальных преобразований.
Превращение НКВД в репрессивную организацию, фактически вышедшую из-под контроля государственных органов, привело к игнорированию прав человека и обернулось полной незащищенностью граждан от милицейского произвола и в то же время самих работников милиции - от произвола созданной системы. Правовая незащищенность работников милиции являлась объективным фактором на всех этапах существования советского государства. Несмотря на то, что правовыми актами милиция наделялась статусом «административно-исполни- тельного органа», что предполагало считать ее самостоятельной государственной структурой, таковой она не являлась, а все это время входила в систему НКВД, ОГПУ (а в дальнейшем - МВД и т.д.) - специфического отраслевого органа государственного управления, имеющего весьма разнообразные компетенции и обширную сферу функционально санкционированного вторжения.
При этом собственно полицейские функции милиции как самостоятельного государственного органа, созданного для охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и посягательствами на личность и имущество граждан, отходили на второй план. Первичной же становилась функция силовой поддержки в решении политических, хозяйственных, организационных и других задач, стоящих перед всей системой НКВД (в последующем - МВД), да и всей исполнительной властью в целом.
В отсутствии четкой правовой регламентации деятельности, когда правовой основой были не законы, а подзаконные ведомственные акты, бесправное положение работников милиции являлось естественным и вполне устраивало вышестоящие организации. Изменить что-либо снизу было невозможно, так как права объединяться в профсоюзы или обращаться в суд для решения спорных служебных вопросов у работников милиции отсутствовали, более того, увольнение по собственному желанию положением о прохождении службы не предусматривалось.
В целом правовая политика 1920-1930-х гг. строилась исключительно на основе политической целесообразности. С конца 1920-х гг. партийно-государственная политика в области права приобрела псевдогуманистический характер, поскольку в значительной мере она порождала антиправовую практику, игнорирующую, нарушающую и лишающую защиты интересы и права отдельного человека. Под громкими лозунгами о строгости и справедливости социалистической законности изменялась сама суть права, для властных органов создавалась возможность нарушать и игнорировать его. Руководство страны стремилось манипулировать правоохранительными органами в своих интересах, не признавая их как самостоятельную силу, выражающую интересы права и гражданского общества.
Процесс централизации и децентрализации милиции, как и всей системы органов внутренних дел, носил конъюнктурный характер и менялся в соответствии с изменениями политических и экономических задач, ставившихся коммунистической партией перед государственным аппаратом.
Таким образом, в 1920-1930-е гг. происходило организационное становление политики в об ласти права. Первоначально, после октябрьских событий 1917 г, в качестве источника права применялись понятия «революционная законность» и «революционное правосознание трудящихся». В дальнейшем, с укреплением государственных органов, правовую основу РСФСР составляли законодательные акты, которые должны были способствовать обеспечению законности и правопорядка. Однако в изучаемый период и в период последующего развития государства правовая политика строилась исключительно на основе политической целесообразности и зависела от особенностей политического курса, избираемого партией и правительством. К концу 1920-х гг. в практику правоприменительной деятельности вновь возвратились принципы времен Гражданской войны и политики военного коммунизма - «революционная целесообразность» и «революционная законность». Возникли новые внеконституционные органы - «тройки», «пятерки», всевозможные «штабы», «особое совещание» и прочие структуры, наделенные чрезвычайными полномочиями. Милиция как часть государственного аппарата наряду с ВЧК-ОГПУ не только концентрировала функции надзора и принуждения, но и начала осуществлять непосредственное подавление выступлений противников политической системы.
Список литературы Деятельность органов милиции в системе исполнительной власти советского государства в 1917-1930 гг.: организационные и правовые основы
- Административный вестник. 1928. № 4.
- Административный вестник. 1928. № 7.
- Административный вестник. 1930. № 1.
- Административные органы в новых условиях. М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1930. 120 с.
- Бранденбургский Я. К постановке вопроса об упрощении уголовного процесса на VI съезде работников юстиции//Советское государство и революция права. 1929. № 1. С. 3-9.
- Воробейкова Т.У. Советская милиция в годы борьбы за социалистическую реконструкцию народного хозяйства (1926-1934 гг.)//Труды Киевской высшей школы милиции МВД ССР. Киев, 1977. С. 40-52.
- Второй Всероссийский съезд административных работников, 23-30 апреля 1928 г. М., 1928. 56 с.
- Желудкова Т.И. Идея и опыт ликвидации штатных органов милиции в конце 20-х -начале 30-х годов//Академия МВД СССР. Профессиональные и общественные начала в деятельности ОВД. М., 1990. С. 82-87.
- Игонькина С.И. Правовой статус милиции в механизме российского правового государства//Исследования теоретических проблем правового государства. Труды АН МВД РФ, 1996. С. 34-42.
- История советской милиции. Т. 1. М., 1977. 382 с.
- Каганович Л.М. Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом//Советское государство и революция права. 1930. № 1. С. 5-12.
- Мулукаев P.C. Развитие системы ОВД РФ. М.: Академия МВД РФ, 1995. 260 с.
- Полиция и милиция России: страницы истории. М.,1995. 360 с.
- Свод законов СССР (далее -СЗ СССР). 1930. № 60. Ст. 640.
- СЗ СССР. 1932. -№ 25. Ст. 324.
- Соловей Ю.П. Правовое регулирование применения милицией силы//Государство и право. 1993. № 4. С. 15-25.
- Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. Омск, 1993. 160 с.
- Собрание узаконений РСФСР (далее -СУ РСФСР). 1920. № 79. Ст. 371.
- СУ РСФСР. 1922. № 33. Ст. 386.