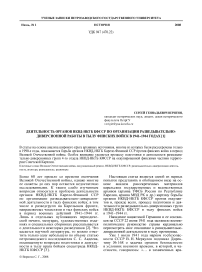Деятельность органов НКВД-НКГБ КФССР по организации разведывательно - диверсионной работы в тылу финских войск в 1941-1944 годах
Автор: Веригин Сергей Геннадьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа широкого круга архивных источников, многие из которых были рассекречены только в 1990-е годы, показывается борьба органов НКВД-НКГБ Карело-Финской ССР против финских войск в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется процессу подготовки и деятельности разведывательно-диверсионных групп 4-го отдела НКВД-НКГБ КФССР на оккупированной финскими частями территории Советской Карелии.
Великая отечественная война, оккупационный режим, нквд-нкгб кфсср, разведывательно-диверсионная деятельность, агентура, разведшколы, радиоигры
Короткий адрес: https://sciup.org/14749386
IDR: 14749386 | УДК: 947
Текст научной статьи Деятельность органов НКВД-НКГБ КФССР по организации разведывательно - диверсионной работы в тылу финских войск в 1941-1944 годах
Более 60 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны, однако многие ее сюжеты до сих пор остаются недостаточно исследованными. К таким слабо изученным вопросам отно сится и проблема деятельно сти органов НКВД-НКГБ Карело-Финской ССР по организации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу финских войск, в том числе и разведгрупп на Карельском фронте, направляемых чекистами в тыл финских войск в период военных действий 1941–1944 гг. Лишь в отдельных публикациях периодической печати, мемуарах, художественных изданиях и специальных сборниках рассказывается о деятельности некоторых разведчиков [2]. Что касается научной литературы, то можно отметить только одну небольшую по объему статью петрозаводского исследователя С. С. Авдеева, посвященную вопросам подготовки и деятельности в тылу врага бойцов спецотряда НКВД-НКГБ КФССР [3].
Настоящая статья является одной из первых попыток представить в обобщенном виде на основе анализа рассекреченных материалов карельских государственных и ведомственных архивов (архива УФСБ России по Республике Карелия, архива МВД РК и др.) картину борьбы органов НКВД-НКГБ КФССР против оккупантов и, прежде всего, процесс подготовки и деятельности разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ КФССР в тылу финских войск в 1941–1944 гг.
Нападение нацистской Германии и ее союзников на СССР 22 июня 1941 года заставило военнополитическое руководство страны кардинально пересмотреть свое отношение к разведывательнодиверсионной деятельности в тылу противника.
Уже 1 июля 1941 года нарком госбезопасности СССР В. Н. Меркулов подписал Директиву № 168 о задачах органов безопасности в условиях военного времени, в которой, в частности, говорилось: «… в захваченных вра-
гом районах надо создать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу…». Эта же мысль прозвучала и в выступлении по радио 3 июля 1941 года Председателя ГКО И. В. Сталина: «…В захваченных врагом районах создать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу и срывать все их мероприятия…». В Постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск» подчеркивало сь: «…Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов, … уничтожать захватчиков и их пособников…» [4]. Фактически был отдан приказ на проведение террора и диверсий в тылу противника и указаны категории лиц, которые подлежали уничтожению.
5 июля 1941 года нарком внутренних дел Л. П. Берия подписал приказ № 00882 о создании при НКВД СССР Особой группы, перед которой ставились следующие задачи: разработка и проведение разведывательно-диверсионных операций против гитлеровской Германии и ее сателлитов; организация подпольной и партизанской войны; создание нелегальных агентурных сетей на оккупированной территории; руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника [5]. Начальником Особой группы был назначен Павел Анатольевич Судоплатов, его заместителем – Наум Исаакович Эйтингон.
При Особой группе было создано воинское подразделение, включавшее два полка, которые делились на батальоны, отряды и спецгруппы. В октябре 1941 года войска Особой группы были преобразованы в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН), ставшую первым соединением отечественного «спецназа».
Сама Особая группа НКВД СССР в этом же месяце была реорганизована во 2-й отдел, который в свою очередь в январе 1942 года был преобразован в 4-е управление НКВД СССР. В республиканских и областных управлениях НКВД, в том числе и в Карело-Финской ССР, были созданы опергруппы (в августе 1941 года преобразованные в 4-е отделы), на которые и возлагались задачи по формированию и руководству деятельностью истребительных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, организации разведки районов их вероятной деятельности [6].
С самого начала Великой Отечественной войны НКГБ КФССР приступил к активной организации агентурной и диверсионной работы за линией фронта. Она включала в себя следующие направления: подготовка и оставление на угрожаемой оккупацией противником территории Карелии нелегальных резидентур и агентов-одиночек для контрразведывательной работы; формирование и переброска в ближайший тыл финских войск разведывательных групп для сбора сведений о противнике; засылка диверсионных групп на коммуникации врага для уничтожения живой силы и дезорганизации тыла наступавших финских воинских частей.
Уже 23 июня 1941 года начальникам Выборгского, Сортавальского, Яскинского, Суоярвского, Ребольского, Калевальского и Кестеньгского, а 27 июня – Кексгольмского и Ухтинского районных отделов НКГБ были даны указания об оставлении агентуры для разведывательно-диверсионной работы на территории, которую угрожал захватить противник.
В ноябре 1941 года начальник карельской разведки майор госбезопасности Г. И. Кудрявцев в «Отчете о проделанной работе разведотдела НКВД КФССР по состоянию на 10 ноября 1941 г.» докладывал, что отделом подготовлена резидентура для оставления в г. Медвежьегорске, в случае занятия его противником. Одной из задач резидентуры является «подготовка и проведение террористических актов над представителями командования, разведки и органов власти противника» [7]. За день до захвата финскими войсками г. Петрозаводска НКГБ КФССР оставил в городе 8 агентов, одному из которых («Ситникову») была поставлена задача «по совершению террористических и диверсионных актов в отношении врага и его живой силы» [8]. Всего при отступлении частей Красной Армии в оккупированных районах Карелии, включая г. Петрозаводск, был оставлен 61 агент [9].
Однако, как показали дальнейшие события (быстрое наступление финских войск, недостатки в подготовке агентуры, отсутствие надежной связи, предательство отдельных агентов, переселенческая политика финских оккупационных властей), свою деятельность эта агентура не развернула и существенной роли в зафронтовой работе не сыграла. Практика привлечения агентов-одиночек к совершению террористических актов себя также не оправдала.
В первые месяцы войны негативное влияние на организацию деятельности агентурной работы органов безопасности Карелии, как и других прифронтовых регионов страны, оказывало то обстоятельство, что они вынуждены были решать задачи по силовой поддержке обороняющихся воинских частей, формированию, в том числе за счет оперативного состава, истребительных батальонов и партизанских отрядов (до образования в июне 1942 года при Военном совете Карельского фронта штаба партизанского движения).
Направление диверсионных групп в тыл противника стало применяться с самого начала войны. Уже 12 июля 1941 года наркомом госбезопасности КФССР М. И. Баскаковым и зам. командующего тылом 7-й армии Киселевым издается «Боевой приказ № 1» о направлении спецгруппы НКГБ в составе 25 чел. с диверсионным заданием на территорию Финляндии в район Лиекса-Йоэнсуу. Во время рейда в оперативный тыл противника группа взорвала мост и склад боеприпа- сов в дер. Лубосалми, уничтожила две грузовые автомашины, заминировала 3 км дороги, повредила в нескольких местах телефонные провода, вышла в расположение советских войск, потеряв 3-х человек в ходе боестолкновений с группами преследования. Примерная нагрузка на бойца составила 25 кг (винтовка – 4,5 кг, 120 патронов – 2,6 кг, 4 гранаты РГД, ВВ – 1 кг, продукты – 14 кг). В отчете командира группы был высказан ряд предложений по улучшению оснащения будущих диверсионных групп.
Анализ данной и других «ходок» в тыл противника в первые недели войны показал настоятельную необходимость более тщательно вести подготовку диверсионных групп для заброски их за линию фронта. И уже в июле 1941 года в НКГБ КФССР была организована специальная (особая) диверсионная школа. СНК республики 8 июля 1941 года утвердил подготовленную разведотделом «Ориентировочную смету расходов по подготовке лиц специального назначения», в которой указывалось, что курсы рассчитаны на 7 дней (по 40-часовой программе), количество курсантов – 27 чел., преподавателей – 2 чел. Численность курсантов в первые полгода войны постоянно увеличивалась: в октябре 1941 года школа состояла из 4 отрядов по 3 группы в каждом и насчитывала 154 чел., а к концу 1941 года учебу в школе закончило 196 чел. и было сформировано 15 диверсионных групп. Она имела две грузовые машины, катер и моторную лодку. Руководство школой было возложено на начальника 4-го отдела комбрига С. Я. Вершинина [10].
С организацией в октябре 1941 года 4-го отдела все диверсионные кадры, за исключением созданных в РО, вошли в спецотряд школы особого назначения НКВД, который имел свой номер и дислоцировался до конца войны в селе Шижня Беломорского района республики.
Подбор кадров в спецотряд производился отделами НКГБ на предприятиях, в различных учреждениях и организациях на добровольной основе и, как правило, из числа молодежи. При этом учитывались профессиональные качества кандидата, проверялась его благонадежность и «политическая лояльность». Затем по письменному ходатайству наркомата («направляем список лиц, давших согласие на работу по выполнению спецзаданий в тылу врага») принималось распоряжение СНК КФССР, которое направлялось руководителям предприятий: «Работающий у Вас (ФИО) временно призван для выполнения особых заданий, связанных с обороной страны. Сохраните за ним занимаемую должность и зарплату» [11].
Привлекались и отдельные заключенные, осужденные за незначительные преступления, а также чекисты, арестованные в годы репрессий, а с началом войны подавшие заявления о посылке их на фронт. Через ОИТК им оформлялось освобождение, и они направлялись в распоряжение НКГБ КФССР.
Возможность использования этого контингента для диверсионной работы в тылу противника в июле 1941 года обосновывал в рапорте на имя наркома государственной безопасности КФССР М. И. Баскакова начальник отделения КРО НКГБ республики Я. Х. Каган. Он передал список заключенных ОИТК НКВД КФССР, осужденных за незначительные преступления (подчеркивалось, что не за контрреволюционные), проявивших себя стахановцами в ИТЛ, имеющих положительные характеристики со стороны администрации лагерей и выразивших желание о посылке их на фронт добровольцами [12].
Интересное обоснование целесообразности использования заключенных приводит в своем заявлении на имя секретаря ЦК КП(б) КФССР, члена Военного совета Карельского фронта Г. Н. Куприянова сотрудник НКВД Креков: «По работе в органах НКВД мне приходилось работать над деклассированным преступным элементом. Часть из этой категории (осужденных за мелкие преступления) молодых, здоровых людей, имеющих твердый и решительный характер, неплохие умственные способности, имеет возможности принять непосредственное участие в защите Родины, вернуться в семью уже не преступником. После тщательной военной и политической подготовки из них можно сформировать группу для выполнения любых боевых заданий. Вооружение этого контингента при наличии заградительных заслонов исключает возможность проявления трусости или измены» [13].
Так же, как и в партизанские отряды, бойцы в спецотряд особой школы НКВД КФССР отбирались и в соседних регионах (часто это приходилось делать с «боем»). Например, в январе 1942 года в распоряжение 4-го отдела для комплектования диверсионных групп прибыло 25 чел. из Архангельской области, в том числе 6 работников милиции. Так как хороших, как правило, не отдавали, то уже по прибытию в Беломорск, который после оккупации Петрозаводска финскими войсками стал военной столицей республики, было «отбраковано» по состоянию здоровья 7 человек (один оказался даже с ампутированными пальцами ног) [14].
По состоянию на 1 ноября 1942 года численность спецотряда составляла 87 чел., из них:
-
а) по социальному положению: служащие – 40, рабочие – 45, колхозники – 1;
-
б) по партийности: члены (кандидаты) партии – 22, комсомольцы – 35;
-
в) по возрасту: до 28 лет – 41, до 22 лет – 22, до 18 лет – 24;
-
г) по национальности: русские – 63, карелы –
-
9, украинцы – 5, финны – 2, вепсы – 2, др. национальности – по 1 чел.
Состав спецотряда постоянно менялся. Многие бойцы погибали на заданиях, попадали в плен к финнам, некоторые спецгруппы пропадали без вести. Пополнение спецотряда НКВД КФССР в период всей войны шло, прежде всего, за счет тех бойцов, чьи родственники находились на оккупированной территории и которых можно было использовать в агентурной работе. Часть бойцов спецотряда передавали в распоряжение штаба партизанского движения при Военном Совете Карельского фронта и, наоборот, за счет партизанских отрядов пополняли состав спецотряда НКВД КФССР.
Всего с мая по ноябрь 1942 года выбыло по различным причинам 77 чел., в том числе было убито и пропало без вести – 26, ранено – 13, отчислено по состоянию здоровья и в партизанские отряды - 15, в военкомат - 15, на учебу – 5, прибыло – 17 [15].
На 1 июня 1942 года по линии 4-го отдела НКВД КФССР имелось 278 чел., зачисленных на довольствие, в том числе: специальный диверсионный отряд – 156 чел.; нелегальные резидентуры – 72; закончивших двухмесячную подготовку в НКВД – 25; закончивших подготовку радистов – 10 чел.
Обучение бойцов в спецшколе НКВД КФССР проводилось ежедневно с 10.00 до 22.00 по специальной программе, включавшей в себя военную (устав пехоты, боевое оружие, подрывное дело, топография, самбо, медпомощь) и оперативную (разведка, основы партизанской тактики, методы работы финской контрразведки) подготовку. В основу политической подготовки брались публикации в газетах, выступления лекторов парторганов, изучались доклады руководителей страны и республики. Подготовка к парашютному делу (теория и прыжки) осуществлялась с выездом в г. Онега Архангельской обл., при этом часть бойцов из-за страха отказывалась прыгать. Подготовка радистов в первое время велась на полугодовых курсах в Москве, но уже в 1942 году 8 девушек окончили курсы в Беломорске, организованные при 4-ом отделе, в 1943 – 10 чел.; в 1944 – 13 чел. [16].
Снабжение продпайками и вооружением бойцов спецотряда особой школы НКВД КФССР осуществлялось по нормам 4-го управления НКВД СССР со склада хозяйственного отдела по нарядам и накладным. Обоснованные рапорта-заявки (по количеству людей, задачам, нормам) подавались оперработниками начальнику 4-го отдела за 5 дней до выхода группы на задание. При недостатке пайков и снаряжения они взаимообразно запрашивались у начальника тыла Карельского фронта. Использовались также и природные ресурсы: отстрел лосей (по разрешениям), ловля рыбы, сбор грибов и ягод.
Первые заброски диверсионных групп за линию фронта, анализ их деятельности в тылу противника и возвращения обратно позволили определить оптимальное количество вооружения, боеприпасов и продовольствия, которое должны были брать с собой бойцы, отправляясь на задания в тыл противника. Примером расчета вооружения и снабжения 10-дневного рейда диверсионной группы из 14 человек может слу- жить документ, утвержденный наркомом НКВД 13 октября 1941 года:
-
а) вооружение: винтовка-карабин «Маузер» – 9 шт. (патронов – 900 шт.), винтовка СВД-40 – 5 шт. (патронов – 500 шт.), пистолет-пулемет ППД – 1 шт. (патронов – 210 шт.), ручных гранат РГД – 33 – 60 шт., ВВ (тол) – 12 кг (запалов – 15 шт.), бикфордов шнур – 10 м, противопехотных мин с капсюлями – 15 шт.;
-
б) продовольствие: мясные консервы – 90 банок, суп-пюре гороховый – 10 кг, колбаса – 15 кг, сахар – 6 кг, сухари – 45 кг, чай – 0,4 кг, соль – 1,5 кг, махорка – 90 пачек, спирт – 10 л, спички – 60 кор. [17].
Кроме осуществления диверсионно-разведывательной деятельности в тылу противника, бойцы спецшколы использовались и для решения других боевых задач. Так, в декабре 1941 года 77 чел. в составе 6 групп в полном боевом снаряжении были переданы в оперативное подчинение начальнику транспортного отдела НКВД Кировской ж.д. для патрулирования участка Сорокская-Нюхча в целях предотвращения диверсионных актов со стороны финских войск.
Всего с июля 1941 года, с момента создания спецшколы, по июнь 1942 года (до реорганизации 4-го отдела) диверсионные группы совершили 35 боевых походов (кроме участия в двух походах сводного партизанского отряда Журиха). В результате было убито 49 солдат и офицеров противника, уничтожено 9 автомашин, взорвано 19 мостов, сожжено 49 домов, захвачены 2 пленных и 1 секретный документ. В 10 случаях по различным причинам, прежде всего из-за столкновения с финнами, выполнить задания не удалось [18].
На 15 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные при этом доблесть и мужество 32 бойца спецотряда были награждены : орденами Красной Звезды – 13 чел.; Красного Знамени – 8 чел.; медалью «За отвагу» – 2 чел.; «За боевые заслуги» – 9 чел.
В начале 1942 года, после провала гитлеровского «блицкрига», в целях усиления разведывательно-диверсионной деятельности в тылу противника НКВД СССР принял меры по перестройке зафронтовой работы органов безопасности. Приказом наркома от 18 января 1942 года для проведения специальной работы в тылу врага было организовано 4-е управление (руководитель – П. А. Судоплатов). 1 июня 1942 года утверждено новое положение о 4-х отделах территориальных органов, перед которыми ставились следующие задачи:
-
• внедрение агентов в разведывательные и административные органы противника на оккупированной территории и подготовка маршрутников;
-
• создание нелегальных резидентур на оккупированной и угрожаемой оккупацией территории, восстановление связи с оставшейся там агентурой;
-
• организация деятельности диверсионноразведывательных групп в тылу врага.
В условиях стабилизации линии Карельского фронта и конкретизации задач разведывательной работы в тылу противника НКВД КФССР также начал перестройку этой деятельности. В марте 1942 года спец. школа особого назначения НКВД КФССР была реорганизована, наиболее подготовленные бойцы отобраны в спецотряд НКВД, остальные переведены в партизанские отряды. Начальником спецотряда НКВД был назначен ст. лейтенант Колесник [19]. Приказом наркома НКВД КФССР М. И. Баскакова от 9 июня 1942 года уже сокращенный спецотряд, состоящий из 4-х взводов, был передан в подчинение 3-му (агентурному) отделению вновь созданного 4-го отдела НКВД КФССР и использовался в дальнейшем для сопровождения разведчиков в тыл врага и совершения в отдельных «ходках» диверсий на коммуникациях финских войск.
На 3-е (агентурное) отделение 4 отдела НКВД КФССР была возложена задача подготовки специальных мероприятий по диверсии и террору в тылу противника. В целях секретности диверсия и террор в документах были зашифрованы буквами «Д» – диверсия и «Т» – террор. Так, в сентябре 1942 года член военного совета Карельского фронта, бригадный комиссар Г. Н. Куприянов утвердил разработанный 4-м отделом НКВД КФССР «План проведения специальных мероприятий по «Т» и «Д» на временно оккупированной противником территории на период октябрь и ноябрь 1942 года». Этим планом, в частности, предусматривалось уничтожение Шелтозерской комендатуры, коменданта и полицейских (всего 20 человек), совершение террористических актов над старостами Шелтозерского района Изотовым, Широковым и другими [20].
В целях лучшей организации работы по заброске на оккупированную финнами территорию разведгрупп, подготовленных НКВД, штабом партизанского движения в августе 1942 года в с. Пудож создается оснащенный радиостанцией переправочный пункт 4-го отдела в количестве 5 оперработников во главе с зам. начальника отдела Я. Х. Каганом [21]. Были определены три основных способа переброски спецгрупп в тыл противника: переход линии фронта пешим порядком (зимой – на лыжах); десантирование с транспортных самолетов с использованием самолетов фронтовой авиации; переправа за линию фронта водным путем на катерах Онежской (Шала) и Ладожской флотилий.
До переброски групп через линию фронта (в основном использовался Свирский участок фронта) через сотрудников особых отделов достигалась договоренность с военными о времени и пункте пропуска, организации ложной «активности» их разведки на переднем крае обороны, паролях для обратного выхода. Однако при использовании этого способа переброски бойцов (всего было осуществлено 26 «ходок») случа- лись и «накладки», когда возвращающихся разведчиков НКВД встречали военные контрразведчики и допрашивали их с пристрастием как вражеских шпионов.
При выброске с двухместного самолета (29 «ходок») выбирался край большого болота, летчики наблюдали за раскрытием всех парашютов, о чем по возвращению на аэродромы (использовались аэродромы Сегежа, Сосновец, Водлозеро Карелии и Алеховщина Ленинградской области) докладывали сопровождавшему группу сотруднику НКВД. Безопасность этого способа по сравнению с первым была выше, так как разведчики реже попадали в финские засады. Однако были случаи, когда некоторые парашюты не раскрывались и бойцы гибли, так и не приступив к выполнению задания.
При выброске катерами (23 «ходки») последние не доходили до берега несколько сотен метров, бойцы высаживались в резиновые лодки, которые они затем утапливали камнями или маскировали, а весла прятали в лесу.
Несмотря на то что на Карельском фронте не было сплошной линии фронта, стыки оборонительных рубежей тщательно охранялись финскими караулами и патрулями, минировались дороги, тропы и дома, использовалась светоракетная сигнализация [22]. Поэтому разведчикам в суровых климатических условиях Карелии приходилось в длительных походах преодолевать бездорожье, многочисленные озера и реки.
Анализ документальных материалов, прежде всего архивных источников, которые сравнительно недавно были рассекречены и стали доступны исследователям, позволяет выделить три основных этапа в деятельности разведывательно-диверсионных групп 4-го отдела НКВД-НКГБ КФССР в период военных действий на Карельском фронте: первый этап – вторая половина 1941 г. – начало 1942 г. – решение чисто боевых и диверсионных задач в начальный период войны; второй этап – массовая заброска спецгрупп в 1942 г. при недостатке опыта и информации об обстановке на оккупированной финнами территории Карелии; третий этап – более эффективная работа в 1943–1944 гг. по добыванию информации о военных и административных органах противника и проведению диверсионных операций.
Первый период разведдеятельности 4-го отдела стал наиболее трудным, так как многое приходилось начинать с «нуля»: заново выяснять наличие на оккупированной территории агентуры и преданных советской власти людей; выявлять и привлекать к работе лиц, располагавших надежными связями в тылу противника, а таких лиц по обе стороны фронта было не так и много [23]. При этом приходилось учитывать, что на оккупированной финнами территории Карелии остались в основном женщины, старики и дети, использование которых в оперативных целях было достаточно проблематично [24].
На организации работы сказывался также жесткий полицейский режим, установленный финскими оккупантами: в г. Петрозаводске практически все русское население было заключено в лагеря; в деревнях оккупированной Карелии в каждом доме имелся список проживающих; населению выдавались специальные паспорта; с 21.00 вводился комендантский час; разрешение на перемещение между деревнями выдавалось только старостами. По ночам выставлялись караулы, регулярно проводились облавы с собаками. В зимнее время вокруг деревень прокладывалась контрольная лыжня, велось наблюдение с самолетов.
Наряду с политикой заигрывания с национальным населением (к ним относились финны, карелы, вепсы) финские оккупационные власти принимали суровые меры к лицам, заподозренным в оказании помощи партизанам и разведчикам: их заключали в тюрьмы, судили и часто расстреливали прямо на глазах у односельчан. Это не могло не сказываться на населении, оказавшемся на оккупированной финнами территории Карелии.
До перелома в ходе войны многие местные жители боялись встреч с партизанами и разведчиками, отказывались принимать их и давать какую-либо информацию. Как правило, в состав разведгрупп включали бойцов, которые имели родственников на оккупированной территории. Но когда разведчики шли на встречу с родственниками, часто слышали: «Уходи, а не то нас убьют». Имелись случаи предательства как среди местных жителей, так и среди самих разведчиков, которые после уговоров родных сдавались финским оккупационным властям.
В связи с такими случаями в «Инструкции для разведчиков» говорилось: «Вопросы конспирации должны быть в центре внимания, так как от них зависит успех выполнения задания. Вы должны быть осторожны на каждом шагу, но осторожность не должна переходить в трусость, ибо трусость, паникерство несовместимы со званием советского разведчика. Всякая попытка идти на сделку с врагом является предательством интересов Родины, советского народа и покроет имя труса величайшим позором. Оружие применяется в крайнем случае, стремясь вырваться или покончить с врагом».
У финнов не хватало совершенных радиопеленгаторов, поэтому точно определить место расположения разведчиков они могли не всегда, радисты попадали в плен чаще в ходе облав или из-за предательства. На случай захвата разведчиков финскими властями, как вариант, предусматривалось «согласие на сотрудничество», но без выдачи товарищей и существа задания. Необходимо было говорить, что о задании знает только командир. Предусматривался вариант и радиоигр, когда разведчик, попавший в плен, «передавал информацию» под контролем финнов, но должен был подать условный сигнал, что работает под диктовку.
Так, 4 апреля 1944 года самолетом на территорию Финляндии в район Суомуссалми была заброшена группа «Соседи» в составе Андрея Иевлевича Юнтунена, Эссы Омеевича Кемпайнена и Рейно Ласеевича Пехтконена с задачей собрать данные о деятельно сти Суо-муссалминского пункта финской разведки и его агентуры. 16 апреля группа была захвачена финнами, которые попытались начать радиоигру с советскими органами безопасности. Однако их планы не осуществились: 19 апреля радист «Рае» дал сигнал, что работает под диктовку противника. Началась очередная радиоигра с финской разведкой, которая длилась около 2-х месяцев. В ходе расследования было установлено, что 16 апреля группа пошла на хутор к родственникам агента «Корпи». При попытке установления с ними связи последние выдали группу противнику [25].
Однако это происходило не всегда. Радиоигры в период войны проводила и финская сторона. Так, 10 марта 1944 года на территорию оккупированного Пряжинского района Карелии была заброшена группа «Приятели». Как стало известно уже после освобождения Петрозаводска в конце июня 1944 года, группа провалилась, разведчики были арестованы и содержались в Петрозаводской тюрьме. Финская сторона провела радиоигру с НКГБ КФССР. С 30 марта по 21 июня 1944 года радист группы «Приятели» работал под диктовку противника, передавая дезинформацию о деятельности Петрозаводской школы финской разведки, при этом он не дал никаких условных сигналов [26].
Как правило, за месяц до выхода на задание, отобранные в группу заброски разведчики выводились в изолированные пункты (Сегежа, Руйга, Летний и др.), где под руководством оперработника проходили совместную подготовку по специальным планам, согласованным с НКГБ СССР (в отдельных случаях в них вносились существенные коррективы). Отрабатывалось задание, легенда каждого разведчика (на случай захвата – «шли как военная разведка»), при необходимости изготовлялись документы на вымышленные фамилии, изучалась обстановка в районе действия (маршруты движения, схемы, расположение домов, списки жителей, рекомендательные письма, пароли для связи), совершались тренировочные походы и сеансы радиосвязи.
Добытая военная информация передавалась в разведотдел штаба Карельского фронта, оперативная – в отделы НКГБ, которые осуществляли «разработку» граждан, подозреваемых в шпионаже или антисоветской деятельности.
Для направления в тыл противника разведгруппы комплектовались из 2–3 чел., реже – 5–6 чел., хорошо знавших район действий, располагавших там связями, владевших финским или карельским языками. Всего за три года войны, как следует из архивных данных, было направлено 145 разведчиков.
Первой успешно проведенной операцией стала заброска в январе 1942 года группы «Табор» в Заонежский район. Группа состояла из 3-х цыган (старик с женой и их невестка), которые на лошади, запряженной в сани, по льду Онежского озера достигли Большого Клименец-кого острова, в течение недели объехали много деревень и собрали подробную информацию о дислокации и численности финских гарнизонов, об обстановке на оккупированной территории. Эта дерзкая операция окончилась успешно лишь потому, что в первое время финны не создали в районе жесткого режима. Но после разгрома партизанской бригадой, направленной вскоре в Заонежский район, девяти финских гарнизонов противник принял ответные меры: население с восточного побережья было переселено либо в глубь территории Заонежья, либо направлено в лагеря г. Петрозаводска, передвижение между деревнями было строго ограничено. На войне «учились» обе стороны.
Успешно действовала в тылу противника группа «Косачи» в составе Евгения Ильича Меккелева, Николая Ивановича Филатова и Бориса Павловича Балина. Она была заброшена 9 сентября 1942 года на территорию оккупированного Сегозерского района и имела задание добыть сведения о г. Медвежьегорске и его окрестностях, о положении местного населения и войсковых частей финнов в этом районе. Разведчики находились в тылу противника 18 дней, получив ценную информацию. В районе Кяппесельга группа была обнаружена финнами, которые стали преследовать разведчиков, намереваясь взять их живыми. Однако разведчики оказали сопротивление, уничтожили 4-х финских солдат и оторвались от преследования. В общей сложности группа прошла по тылам финских войск 350 км, последние 7 дней, когда закончились продукты, разведчики питались грибами и ягодами [27]. Следует отметить, что в начальный период войны таких примеров эффективной деятельности разведывательно-диверсионных групп в тылу финских войск было немного.
Второй этап – 1942 год – характеризуется массовой заброской спецгрупп в тыл финских войск. Однако большинство разведгрупп возвратилось, не выполнив задания, а половина из них попала в плен. Основной причиной неудач явились слабые знания оперативными работниками местной обстановки, недостатки в подготовке разведчиков, имелись факты предательства как среди местных жителей, так и среди самих разведчиков.
Группа «Боевики» в составе Мянду и Егоровой 13 октября 1942 году катерами была переброшена в Петрозаводск с задачей установить судьбу ранее переброшенных агентов, вербовки новых, а также сбора разведданных. Группа не выполнила задание, была пленена финнами во время переправы. Мянду пошел на сотрудничество с финнами (он был позднее увезен в Финляндию и его судьба неизвестна), а Егорова сидела в финской тюрьме и вернулась в СССР после репатриации [28]. Спецгруппа (арх. № 598) в количестве 8 человек под командованием Бориса Александровича Минина 7 сентября 1942 года была переброшена в район дер. Ялгуба Прионежского района с задачей сопроводить агента «Птицина» в Петрозаводск и разгромить финскую комендатуру в пос. Соломенное (пригород Петрозаводска). По данным агента «Птицина» радист группы сдался в плен финнам и выдал всю группу [29].
Многие спецгруппы НКВД КФССР, заброшенные в тыл финских войск в 1942 года, пропали без вести. Так, группа «Супруги» в составе Ивана Георгиевича Липпонена и Марии Александровны Алтуховой в апреле 1942 года на лыжах была направлена на оккупированную территорию Заонежского района с задачей сбора разведданных. С момента выброски группы о ней не было никаких известий. То же произошло и с группой «Товарищи» в составе Сергея Петровича Федорова и Ивана Михайловича Трофимова, заброшенной на территорию этого же района 27 декабря 1942 года с задачей установить связь с оставшейся там агентурой, провести вербовку новых агентов и собрать разведывательную информацию. Группа пропала без вести [30]. Спецгруппа «Гранит» в составе Михаила Гавриловича Трантина, Ивана Федоровича Белоусова и Пиджаковой 26 апреля 1942 года была заброшена на оккупированную территорию Шелтозерского района. С момента выброски группы никаких данных о ней в центре не имелось [31]. Как выяснилось позднее, группа разведчиков была выдана Пиджаковой [32].
Группа «Лесогвардейцы» в составе Кости Вильберга, Отто Пакаринена, Юхо Ахья, Кале Хершансона и Пекки Онтуева 12 августа 1942 года была заброшена в Финляндию с задачей установить связь с дезертирами финской армии, которых называли «лесогвардейцы», с последующей организацией их в отряд для проведения диверсионной деятельности в тылу финских войск. Разведчики в течение 30 дней находились на территории Финляндии, но задание не выполнили. Местные жители пытались задержать группу. В перестрелке был легко ранен К. Вильберг, и группа возвратилась обратно. 14 сентября 1942 года эта же группа, имея то же задание, вторично была заброшена самолетом на территорию Финляндии. Связь с ней не была установлена, и судьба группы не известна [33].
Анализ неудовлетворительной деятельности разведывательно-диверсионных групп был проведен на совещании в НКВД КФССР в ноябре 1942 года. На нем отмечалось, что многие работники 4-го отдела разведработой ранее не занимались, поэтому допускали «роковые ошибки». Была проанализирована практика работы в 1942 году, выработаны новые принципы и система подготовки разведкадров. В марте 1943 года уже отмечались некоторые положи- тельные сдвиги, хотя все же требовалось улучшить работу переправочного пункта.
По мере накопления опыта, более глубокого и тщательного изучения обстановки на оккупированной финскими войсками территории Карелии росла и эффективность проводимых в 1943–1944 годах мероприятий. Изменилось и отношение местного населения, которое в большинстве случаев уже шло навстречу разведчикам. Об этом свидетельствует и финский генеральный штаб, который в своем документе от 17 марта 1944 года «Тактические и другие сведения о противнике» констатировал: «Несмотря на успешные действия наших частей против партизан (финны имели в виду и разведчиков. – С. В.), не везде правильно понимается необходимость готовности для отражения их действий, не говоря уже о гражданском населении…» [34].
В качестве успешной деятельности в За-онежском районе можно привести примеры выполнения заданий в январе, а затем в октябре 1943 года разведгруппами «Овод» и «Мстители». Разведчики разгромили штабы в деревнях Лонгасы и Ламбасручей, уничтожили 4 сотрудников Военного Управления Восточной Карелии, 3 полицейских и 14 солдат, захватили штабные документы. Но и со стороны разведчиков в последнем бою погибло 5 человек.
Финны установили, что в этих операциях принимал участие отважный разведчик Алексей Михайлович Орлов, на розыск которого были мобилизованы значительные силы финской контрразведки, в том числе предатели из местного населения. Финским солдатам за поимку Орлова было обещано вознаграждение и отпуск домой. Но разведчик был неуловим: за время войны он совершил 11 походов в тыл врага и действовал там по нескольку месяцев.
Можно привести примеры успешной деятельности разведывательно-диверсионных групп в 1943–1944 годах и в других районах Карелии, оккупированных финскими войсками.
После длительной подготовки в августе 1943 года на территорию Шелтозерского района 4-м отделом НКВД КФССР была переброшена агентурная группа «Аврора» (другое название – агентурная группа «База № 2»), которая, потеряв радистов, соединилась с подпольной группой Д. М. Горбачева и до апреля 1944 года активно действовала по сбору разведданных об оборонительных сооружениях на западном побережье Онежского озера и на Свирском участке фронта.
В своей работе разведчики опирались на старосту д. Горное Шелтозеро Дмитрия Егоровича Тучина и на актив из числа молодежи. Связь с Тучиным была установлена 24 августа 1943 года. Староста оказывал существенную помощь группе: без него вряд ли удалось бы разведчикам пробыть так долго и так успешно действовать на оккупированной территории Шелтозерского района. Группа нелегально проживала в доме Тучина, а с наступлением холодов разведчики выстроили землянку в лесу, подальше от деревни. По заданию группы Тучин собирал разведывательные данные как по району, так и по Петрозаводску, куда выезжал по служебным делам [35].
О деятельности разведывательно-диверсионной группы «Аврора» 4-й отдел НКГБ КФССР регулярно докладывал народному комиссару госбезопасности СССР В. И. Меркулову и начальнику 4-го управления НКВД-НКГБ СССР П. А. Судоплатову [36]. В центральном аппарате НКВД СССР высоко оценивали работу этой агентурной группы. Возможности Тучина заинтересовали 4-е управление, готовившее мероприятие по ликвидации начальника штаба Военного Управления Восточной Карелии [37].
Именно поэтому 24 мая 1944 года начальник 4го управления НКГБ СССР комиссар госбезопасности П. А. Судоплатов и заместитель начальника 1-го отдела 4-го управления НКГБ СССР полковник госбезопасности Б. А. Рыбкин [38] направили наркому госбезопасности КФССР А. М. Кузнецову [39] указание (№ 4/1/3894) о ликвидации начальника штаба Военного Управления Восточной Карелии генерал-майора Й. В. Араюри [40] и предложили свой план с использованием Тучина. Выбор последнего Москва обосновывала по ряду причин: во-первых, он как староста пользовался доверием у врага, мог свободно ездить в Петрозаводск, где имел знакомых; во-вторых, по своему положению мог найти предлог для посещения здания штаба Араюри, чтобы познакомиться с расположением служебных помещений, системой охраны, обслуживающим персоналом; в-третьих, как бывший комендант домов СНК КФССР, наверняка мог иметь знакомых среди обслуживающего персонала здания штаба Араюри [41].
Планом также предусматривалось среди обслуживающего персонала завербовать человека, через которого установить точное расположение служебного и личного помещения Араюри, его образ жизни и т. д. для разработки соответствующего плана. При этом П. А. Судоплатов и Б. А. Рыбкин не настаивали на своих предложениях, а давали возможность НКГБ КФССР проявить инициативу по ликвидации Араюри: «Если у вас имеются другие возможности в Петрозаводске для выполнения вышеуказанной операции без привлечения Тучина, то можно будет провести эту разработку иным путем», – и просили сообщить свои соображения по существу данного дела» [42].
Известный карельский специалист по истории спецслужб Э. П. Лайдинен в этой связи пишет: «Встает вопрос, зачем надо было ликвидировать И. В. Араюри ? Конец войны очевиден. С 1943 г. финская сторона зондировала возможность выхода из войны. В 1944 году начались переговоры. Однако 19 апреля 1944 года Финляндия отклонила советские условия перемирия и переговоры прекратились. Противодействие политике войны вступило в новую фазу. У насе- ления Финляндии и в армии нарастали открытость суждении и действий в пользу мира, а среди политической оппозиции правительственному курсу усилилась решимость добиться выхода страны из войны путем установления прямых контактов с Советским Союзом. Полагаю, что СССР в полной мере владел обстановкой в Финляндии и прикладывал все силы для вывода Финляндии из войны. Однако ситуация после прекращения переговоров изменилась. Это, вероятно, одна из причин намерения ликвидации руководителя ВУВК, преследовавшая следующие цели: надавить на неуступчивых финнов, запугать руководство Финляндии, сделать его сговорчивее и заставить пойти на переговоры и выход из войны» [43].
На наш взгляд, можно согласиться с точкой зрения Э. П. Лайдинена, который, анализируя данный вопрос, отмечает, что, вероятно, на отдачу подобного приказа во многом повлиял пример известного боевика 4-го Управления НКГБ СССР Н. Н. Кузнецова, который в 1943 году провел несколько успешных террористических актов в отношении германского руководства на оккупированной Украине: расстрелял имперского советника Ганса Гелля и его адъютанта, заместителя гауляйтера Украины Эриха Коха, генерала Германа Кнута, ликвидировал президента верховного суда А. Функа; похитил и вывез из Ровно командующего карательными войсками на Украине генерала фон Ильгена, были и другие эксцессы [44].
И далее он добавляет: «Однако покушение на руководителя Военного управления Восточной Карелии так и не состоялось, да и не могло состояться по ряду причин. Во-первых, приказ на ликвидацию Араюри поступил в секретариат НКГБ КФССР (Беломорск) только 24 июня 1944 года. В то время как финские войска уже 17 июня приступили к всеобщей эвакуации из Петрозаводска и рано утром 28 июня последние финские солдаты покинули Петрозаводск, а в 10 часов утра того же дня передовые отряды Онежской военной флотилии в рамках Свирско–Петрозаводской операции (21.6–9.8.1944 ) высадились в город. Во-вторых, НКГБ КФССР не располагал точными сведениями о положении в оккупированном Петрозаводске. Так, генерал-майор Й. В. Араюри еще в августе 1943 года покинул Петрозаводск и вместо него начальником ВУВК был назначен бывший начальник Олонецкого округа полковник Олли Палохеймо, который находился на указанной должности вплоть до окончания оккупации Петрозаводска. В-третьих, 4-й отдел НКГБ КФССР не располагал возможностями для выполнения вышеуказанного приказа вследствие отсутствия у НКВД-НКГБ КФССР опыта проведения подобных террористических операций, опытных кадров из числа сотрудников и агентуры, необходимой подготовки» [45].
Несмотря на неудачу в вопросе ликвидации начальника штаба ВУВК генерал-майора Араю- ри, которая, на наш взгляд, была вызвана объективными обстоятельствами, в целом деятельность агентурной группы «Аврора» на оккупированной территории Шелтозерского района в 1943–1944 годах следует признать весьма результативной.
Что касается Д. Е. Тучина, то в карельской литературе он признан одним из главных лиц, которые сотрудничали с советскими разведчиками в период войны на территории оккупированного Шелтозерского района. Тучин в течение длительного времени укрывал и помогал получать информацию группе разведчиков и подпольному Шелтозерскому райкому партии во главе с Д. М. Горбачевым [46]. Он стал одним из героев известной повести О. Н. Тихонова «Операция в зоне «Вакуум».
Вместе с тем, по архивным документам финских оккупационных властей, Д. Е. Тучин являлся одним из самых лояльных сторонников финского режима, оказывал всевозможную помощь властям. В составе группы старост из оккупированных районов Карелии в 1942 году он ездил в Финляндию, встречался с президентом Рюти и главнокомандующим Маннергеймом [47]. Тучин был одним из тех старост, которые до самого последнего момента пребывания финнов на территории Шелтозерского района агитировал местное население на эвакуацию в Финляндию. Он был награжден финской медалью за помощь в поимке десанта.
Не следует забывать и тот факт, что Д. Тучин пошел на контакты с советскими разведчиками и подпольщиками только в августе 1943 года, когда уже наметился явный перелом в войне и было ясно, что планы Финляндии по присоединению к ней Восточной Карелии провалились. Тучин, будучи умным человеком, не мог не задумываться о том, что ждет его, как старосту и представителя финской администрации в Шел-тозерском районе, после освобождения района советскими войсками от финской оккупации.
Весьма странной выглядит сама смерть Д. Е. Тучина. Он трагически погиб сразу после окончания войны – летом 1945 года, работая в должности зам. председателя Суоярвского райисполкома: вывалился из кузова грузовой машины прямо под колесо. Все это наводит на мысль о том, что Д. Е. Тучин вполне мог быть двойным агентом, который слишком много знал о тайнах как советской, так и финской разведок, и был устранен сотрудниками НКВД КФССР. Это является только предположением автора статьи.
Примерно ту же мысль проводит финляндский исследователь Х. Сеппеля, который пишет: «Шелтозерский комендант капитан Лаури Орисля в июле (имеется в виду в 1944 году. – С. В.) в отчете об эвакуации писал, что местное население соблюдало спокойствие, но «…к сожалению, один инцидент все же произошел. Староста деревни Миенкюля (Горнее Шелтозеро. – Ред.) Мийтро Пилвехинен или Тучин, который очень усердно помогал нашему руководству и награж- ден медалью за помощь в поимке десанта, попросился с нами в Финляндию. Но его истеричная жена не согласилась на переезд, а Пилвехинен в одиночку не согласился уехать. После этого, чтобы как-то оправдать себя в глазах русских, он организовал из местного населения «шайку», задачей которой было противодействовать финнам». Далее Орисля рассказывает, что «шайка» застрелила одного полицейского. При преследовании ее двое были задержаны, а самого Пилве-хинена поймать не удалось. Орисля никак не верил, что Пилвехинен мог быть агентом, настолько он был старательным» [48].
И далее Х. Сеппеля отмечает: «Лейтенант Монтонен хорошо знал Пилвехинена по работе в Военном управлении и допускал, что в самом конце он мог организовать какое-то сопротивление, но поначалу вызывал полное доверие… В списках партизанских отрядов нет упоминаний о создании партизанских отрядов в Шелто-зере и Сегозере в конце войны. Судя по всему, в Шелтозере все же работала подпольная группа. Тучин-Пилвехинен искусно служил двум хозяевам (выделено автором статьи) и поддерживал подпольную группу в Шелтозере» [49].
Необходимо отметить успешную деятельность и других разведывательно-диверсионных групп НКВД КФССР в тылу финских войск на заключительном этапе военных действий на Карельском фронте. Так, в сентябре 1943 года разведгруппа «Парус» заминировала ж.д. полотно на важном участке Кировской ж.д. между станциями Медгора и Кондопога, в результате 2 воинских эшелона финнов были пущены под откос. В мае 1944 года группа «Мстители», находившаяся в тылу противника в Кондопожском районе, приняла на свою базу 17 партизан, которые в ходе активных боевых действий уничтожили 12 военных автомашин, перерезали основную коммуникацию Медвежьегорской группы войск противника. Разведчиками этой группы был захвачен и доставлен за линию фронта сотрудник финской контрразведки, переводчик охранного отделения штаба главной квартиры финской армии лейтенант Павлов. По его показаниям было арестовано 18 человек агентуры и полиции из числа местных жителей, вставших на путь сотрудничества с финскими властями, получены ценные данные о работе финских контрразведывательных органов [50].
В мае–июне 1944 года (до самого освобождения) в Ведлозерском районе активно действовала группа «Дублеры». Через родственников и местных патриотов, в том числе старост ряда деревень, разведчики собирали ценные сведения о строительстве финнами оборонительных рубежей, прибытии дополнительных сил (в д. Салминица был установлен отряд из 250 шведов), интенсивности перевозки грузов, которые немедленно передавались в разведотдел штаба Карельского фронта. Аналогично работала в Сегозерье группа «Лесники».
Однако и на третьем, более успешном, этапе деятельности разведгрупп НКВД КФССР (1943– 1944 гг.) допускались ошибки и недостатки предшествующих периодов, имелись факты предательства и трусости.
Группа «Земляки» 18 августа 1943 года самолетом была переброшена в Олонецкий район с задачей связаться с оставшейся там агентурой, организовать базу и собрать разведывательные данные. Группа не выполнила задание, была предана одним из разведчиков – Леонтьевым (после войны он был осужден на 20 лет) [51]. На территорию этого же района 27 октября 1943 года самолетом была заброшена группа «Южные» в составе Кайпанена, Кошкина и Пешеходовой. Из-за предательства Пешеходовой группа была захвачена финнами, не выполнив задание. Унто Петрович Кайпанен и Николай Васильевич Кошкин по приговору финского суда были расстреляны. Пешехо-дова по репатриации вернулась после войны в СССР и была осуждена на 20 лет [52].
В апреле 1944 года на оккупированную территорию Прионежского района самолетом была выброшена группа «Боевики» в составе Виктора Павловича Петрова, Михаила Васильевича Попова, Унто Петровича Хакканена, Сергея Егоровича Алексеева с задачей создать базу на территории района для проведения диверсионной работы. Группа не выполнила задание: из-за предательства Ивановой, также входившей в состав группы, все разведчики были обнаружены и убиты. Иванова после войны была арестована и осуждена советским судом [53].
Как показывает анализ архивных документов, многие спецгруппы НКВД КФССР не выполняли задание вследствие нерешительности или трусости разведчиков. Так, спецгруппа «Сокол» в составе Серова и Филатова зимой 1943 года дважды направлялась на оккупированную территорию Заонежского района с задачей завербовать родственника Филатова и собрать разведданные. В обоих случаях группа доходила до берега противника, но из-за трусости и нерешительности на берег не выходила и возвращалась обратно. Группа «Лесники» в составе Дорофеева и Тукачева 18 мая 1944 года самолетом была переброшена в тыл противника на территорию Сегозерского района с целью сбора разведданных. Группа находилась за линией фронта 40 дней и по рации передала некоторые сведения о противнике. Но действовала очень нерешительно, больше сидела в лесу, хотя финские части уже начали отступление. Только по радиограмме из центра группа вышла из леса и явилась в райотделение, когда район был освобожден от финнов и уже действовали советские органы []54].
Группа «Разведчики» в составе Лаукканена, Артукова и Семенова 4 апреля 1944 года была десантирована в тыл противника на территорию Калевальского района с задачей разведки гарнизонов финских войск и движения транс- порта по дороге Юнтусранта-Войница. Группа не выполнила задание: Лаукканен разбился при приземлении (не раскрылся парашют), а Арту-ков и Семенов находились в тылу более 6 месяцев, сидели в лесу, никаких данных не собрали и вышли из леса спустя 3 месяца после окончания военных действий на севере Карелии [55]. Группа «Торпеда» в составе Романова и Гридиной 19 мая 1944 года самолетом была выброшена на территорию Олонецкого района с це- лью сбора данных о противнике. Однако разведчики не выполнили задание, до 28 июня 1944 года скрывались в лесу, не собрав никаких данных, а когда финны покинули территорию района – вышли из леса [56].
Разведывательно-диверсионной деятельности органов НКВД Карелии на Севере в период военных действий 1941–1944 годов противостояли серьезные противники – финская и немецкие разведки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Продолжение статьи будет опубликовано в следующем номере.
-
2. Воробьев Н . и др. Ухожу на задание. Док. очерки. Петрозаводск, 1974; Куприянов Г. Н. За линией Карельского фронта. Петрозаводск, 1975; Бацер И. и др. Позывные из ночи. Док. повесть. Петрозаводск, 1977; Тихонов О. Операция в зоне «Вакуум». Док. повесть. Петрозаводск, 1979; Журавлев и др. Чекисты Карелии. Док. очерки. Петрозаводск, 1982; Яровой А. и др. Дублеры. Док. повесть. Петрозаводск, 1984; Тигушкин А.и др. Чекисты Карелии. Док. очерки. Петрозаводск, 1986; .Богданов А. и др. Чекисты Карельского фронта. Док. очерки. Петрозаводск, 1988.
-
3. Авдеев С . С . Деятельность советских спецгрупп на Карельском фронте в тылу противника (1941–1944 гг.) // Карелия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне (28 апреля 2000 г.). Петрозаводск, 2001. С. 9–22.
-
4. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн.1. Начало. 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 2000. С. 136–138, 161–165, 343.
-
5. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн.1. Начало. 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 2000. С.186; Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 2003. С. 197.
-
6. Погоний Я . Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки. М., 1999. С. 230.
-
7. Архив Управления Федеральной службы безопасности РФ по РК (далее – Архив УФСБ РФ по РК). ФСДП. Оп.1. П.102. Л. 250–251.
-
8. Там же. С. 241.
-
9. Архив УФСБ РФ по РК, ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 2.
-
10. Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 2; Литер. дело 9. Л. 30.
-
11. Архив УФСБ РФ по РК. Литер. дело 9. Л. 117.
-
12. Там же. Литер. дело 10. Л. 38, 39.
-
13. Там же. Л. 181.
-
14. Там же. Литер. дело 9. Л. 212.
-
15. Архив УФСБ. Литер. дело 9. Л. 164.
-
16. Там же. Ф. 2. Д. 95. Л. 153.
-
17. Там же. Литер. дело 9. Л. 29, 205.
-
18. Там же. Л. 246.
-
19. Архив УФСБ РФ по РК. ФДОУ. Д. 9. Т.1. Л. 50.
-
20. Там же. ФЛД. Д. 10. Т. 1. Ч. 3. Л. 1–2.
-
21. Там же. Ф. 2. Д. 93. Л. 25.
-
22. Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны. М., 1984. С. 111, 164, 172.
-
23. По обе стороны Карельского фронта: Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 267, 411.
-
24. Неизвестная Карелия. Документы спецорганов о жизни республики. 1941–1956 гг. Петрозаводск, 1999. С. 48, 52, 61, 62.
-
25. Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 23, 24.
-
26. Архив УФСБ. Ф. КРО. Оп.1. Д. 95. Л. 111–113.
-
27. Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 4.
-
28. Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 11.
-
29. Там же. Л. 17.
-
30. Там же. Л. 12, 20.
-
31. Там же. Л. 17.
-
32. Архив УФСБ РФ по РК. Ф. КРО. Оп.1. П. 98, 351.
-
33. Там же. Л. 20.
-
34. Архив УФСБ РФ по РК. Ф. 2. Д. 95. Л. 136.
-
35. Там же. Ф. КРО. Оп. 1. П. 95. Л. 26–40.
-
36. Судоплатов Павел Анатольевич (1907–1996), комиссар госбезопасности. С 1925 г. работал в органах ОГПУ-НКВД-НКГБ, один из руководителей советской внешней разведки, специалист по террору. В 1938 г. в Роттердаме (Нидерланды) ликвидировал лидера украинских националистов Е. Коновальца, в 1939–1940 гг. руководил подготовкой операции «Утка» по ликвидации Л. Д. Троцкого. С января 1942 г. начальник 4-го отдела НКВД-НКГБ СССР. Руководил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в ближнем и дальнем тылу противника, координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников.
-
37. Там же. Ф.2. Д. 95. Л. 144.
-
38. Рыбкин Борис Аркадьевич, он же Ярцев Борис Николаевич, настоящая фамилия Рывкин Борух Аронович (1899–1947), с сентября 1935 г. под псевдонимом «Кин» работал в качестве легального резидента ИНО НКВД в Хельсинки, в 1939–1940 гг. – начальник 6-го, 8-го отделений 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, с 1941 по 1945 гг. – начальник 4-го отдела 1-го управления НКГБ СССР, резидент в Стокгольме, зам. начальника 1-го отдела 4-го управления НКГБ СССР, полковник госбезопасности.
-
39. Кузнецов Андрей Михайлович (4.11.1901–23.11.1971). С 31 июля 1943 по 10 сентября 1950 гг. – нарком, министр госбезопасности КФССР.
-
40. Араюри Йохан Виктор, генерал-майор, в период с июня 1942 по август 1943 г. – начальник штаба Военного управления Восточной Карелии.
-
41. Лайдинен Э . П . НКВД-НКГБ против генерала Араюра (террор НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны) // История и культурное наследие Северного Приладожья: взгляд из России и Финляндии. Материалы 2 Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения известного музейного деятеля и краеведа Северного Приладожья Т. А. Хаккарайнена и 375-летию Сортавалы (11–13 июня 2007 г., Сортавала). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 139–140.
-
42. Там же. С. 140.
-
43. Там же. С. 140.
-
44. Там же. С. 141.
-
45. Там же. С. 141.
-
46. См.: Афанасьева А. И., Бутвило А. И., Вавулинская Л. И. История Карелии с древнейших времен до наших дней / Под ред. Н. А. Кораблева, В. Г. Макурова, Ю. А. Савватеева, М. И. Шумилова. Петрозаводск: Периодика, 2001. С. 640–641.
-
47. Архив УФСБ. ФСДП. Оп.1. Д. 117. Л. 64.
-
48. Сеппеля Х. Финляндия как оккупант в 1941–1944 годах // Север. 1995. № 6. С. 125.
-
49. Там же. С. 125.
-
50. Архив УФСБ РФ по РК. Ф. КРО. Оп.1. П. 95. Л. 119.
-
51. Архив УФСБ. ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 10.
-
52. Там же. Л. 21.
-
53. Там же. Л. 23.
-
54. Там же. Л. 9, 12.
-
55. Там же. Л. 21.
-
56. Там же. Л. 23
Список литературы Деятельность органов НКВД-НКГБ КФССР по организации разведывательно - диверсионной работы в тылу финских войск в 1941-1944 годах
- Воробьев Н. и др. Ухожу на задание. Док. очерки. Петрозаводск, 1974.
- Авдеев С. С. Деятельность советских спецгрупп на Карельском фронте в тылу противника (1941-1944 гг.)//Карелия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне (28 апреля 2000 г.). Петрозаводск, 2001. С. 9-22.
- Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн.1. Начало. 22 июня -31 августа 1941 г. М., 2000. С. 136-138, 161-165, 343.
- Погоний Я. Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки. М., 1999. С. 230.
- Архив Управления Федеральной службы безопасности РФ по РК (далее -Архив УФСБ РФ по РК). ФСДП. Оп.1. П.102. Л. 250-251.
- Архив УФСБ РФ по РК, ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 2.
- Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 2; Литер. дело 9. Л. 30.
- Архив УФСБ РФ по РК. Литер. дело 9. Л. 117.
- Архив УФСБ. Литер. дело 9. Л. 164.
- Архив УФСБ РФ по РК. ФДОУ. Д. 9. Т.1. Л. 50.
- Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны. М., 1984. С. 111, 164, 172.
- По обе стороны Карельского фронта: Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 267, 411.
- Неизвестная Карелия. Документы спецорганов о жизни республики. 1941-1956 гг. Петрозаводск, 1999. С. 48, 52, 61, 62.
- Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 23, 24.
- Архив УФСБ. Ф. КРО. Оп.1. Д. 95. Л. 111-113.
- Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 4.
- Архив УФСБ РФ по РК. ФСДП. Оп. 1. Д. 302. Л. 11.
- Архив УФСБ РФ по РК. Ф. КРО. Оп.1. П. 98, 351.
- Архив УФСБ РФ по РК. Ф. 2. Д. 95. Л. 136.
- Кузнецов Андрей Михайлович (4.11.1901-23.11.1971). С 31 июля 1943 по 10 сентября 1950 гг. -нарком, министр госбезопасности КФССР.
- Араюри Йохан Виктор, генерал-майор, в период с июня 1942 по август 1943 г. -начальник штаба Военного управления Восточной Карелии.
- Лайдинен Э. П. НКВД-НКГБ против генерала Араюра (террор НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны)//История и культурное наследие Северного Приладожья: взгляд из России и Финляндии. Материалы 2 Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения известного музейного деятеля и краеведа Северного Приладожья Т. А. Хаккарайнена и 375-летию Сортавалы (11-13 июня 2007 г., Сортавала). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 139-140.
- Афанасьева А. И., Бутвило А. И., Вавулинская Л. И. История Карелии с древнейших времен до наших дней/Под ред. Н. А. Кораблева, В. Г. Макурова, Ю. А. Савватеева, М. И. Шумилова. Петрозаводск: Периодика, 2001. С. 640-641.
- Архив УФСБ. ФСДП. Оп.1. Д. 117. Л. 64.
- Сеппеля Х. Финляндия как оккупант в 1941-1944 годах//Север. 1995. № 6. С. 125.
- Архив УФСБ РФ по РК. Ф. КРО. Оп.1. П. 95. Л. 119.
- Архив УФСБ. ФСДП. Оп.1. Д. 302. Л. 10.
- Куприянов Г. Н. За линией Карельского фронта. Петрозаводск, 1975
- Бацер И. и др. Позывные из ночи. Док. повесть. Петрозаводск, 1977
- Тихонов О. Операция в зоне «Вакуум». Док. повесть. Петрозаводск, 1979
- Журавлев и др. Чекисты Карелии. Док. очерки. Петрозаводск, 1982
- Яровой А. и др. Дублеры. Док. повесть. Петрозаводск, 1984; Тигушкин А.и др. Чекисты Карелии. Док. очерки. Петрозаводск, 1986
- Богданов А. и др. Чекисты Карельского фронта. Док. очерки. Петрозаводск, 1988.