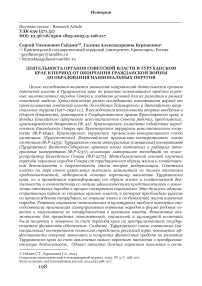Деятельность органов советской власти в Туруханском крае в период от окончания гражданской войны до образования национальных округов
Автор: Гайдин Сергей Тихонович, Бурмакина Галина Александровна
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (29), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является выявление направлений деятельности органов советской власти в Туруханском крае по решению накопившихся проблем коренных малочисленных народов Севера и созданию условий для их развития в рамках советской модели. Хронологические рамки исследования охватывают период от провозглашения советской власти до создания Таймырского и Эвенкийского национальных округов (1917-1930 гг.). В исследовании использованы впервые вводимые в оборот документы, хранящиеся в Государственном архиве Красноярского края, в фондах Енисейского губернского исполнительного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов (Ф. 41): Красноярского комитета содействия народностям Енисейского Севера при Красноярском окружном исполнительном комитете (Ф.Р-1845); Красноярского окружного промыслово-кооперативного союза охотников (Красохотсоюз) Всероссийского промыслово-кооперативного союза охотников (Ф.Р-1453); Туруханского союза интегральных (смешанных) кооперативов (Турухансоюз) Восточно-Сибирского краевого союза охотничьих и рыбацких интегральных кооперативов (Ф.Р-1137); коллекция материалов экспедиций по землеустройству Енисейского Севера (Ф.Р-2275). Методологической основой изучения перехода коренных народов Севера от традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности к современности стала теория модернизации. Советская власть по мере своего укрепления пыталась заниматься не только оказанием продовольственной, медицинской помощи коренному населению Туруханского края, но и проведением трансформации его образа жизни и хозяйственной деятельности в соответствии со своими идеологическими представлениями о вовлечении отсталых народов в процесс построения социализма. Это делалось административным путем со стороны органов власти, в которых преобладали русские по происхождению сотрудники, не знавшие языка и особенностей жизни коренных народов. Решению социально-экономических и культурных проблем населения способствовала организация самоуправления коренных народов в форме родовых советов и налаживание их сотрудничества с органами власти. Финансовые возможности для проведения экономической, социальной и культурной политики были получены в основном за счет перевода края на централизованное государственное финансовое обеспечение. Создание Туруханского союза смешанных (интегральных) кооперативов позволило определить реальный путь повышения эффективности северной экономики и получения финансовых средств на развитие Туруханского края за счет вовлечения самого коренного населения в преобразовательную деятельность. Однако попытка деления коренного населения в соответствии с политическими установками на кулаков, середняков и бедняков вызывала в условиях преобладания родовых отношений не только непонимание, но и открытое недовольство. Важным для коренного населения края стало развертывание системы школьного образования, здравоохранения, ветеринарного обслуживания оленеводства. Однако попытки ускоренного насаждения в крае идеологической и культурно-массовой работы, не адаптированной к традициям северян, не оправдали себя. В рассматриваемый нами период в Туруханском крае была проведена советизация жизни и деятельности населения. Работу органов советской власти в крае можно рассматривать как проведение регионального эксперимента, который требовал постоянного осмысления, корректировки и включения в него коренного населения.
Малые народы севера, комитет содействия народностям северных окраин, районные туземные исполнительные комитеты, рик, северный инспектор, родовые собрания, родовые советы, туруханский союз интегральных (смешанных) кооперативов
Короткий адрес: https://sciup.org/140301498
IDR: 140301498 | УДК: 639 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-3-198-217
Текст научной статьи Деятельность органов советской власти в Туруханском крае в период от окончания гражданской войны до образования национальных округов
Введение. После распада СССР советская национальная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера нередко квалифицировалась как грубый модернизационный процесс, который был проведен без учета интересов этих народов и превратил их в сообщество маргинального типа. Вместе с тем советская политика была вызвана не только идеологическими установками советского руководства, но и являлась ответом на общественный запрос, обусловленный положением этих народов к концу императорского периода в истории России. Поэтому уроки и опыт, приобретенный в условиях ее реализации, могут быть полезными и в современных условиях. Тем более что методологический плюрализм в современной исторической науке дает возможность рассмот- реть, с одной стороны, обусловленность, а с другой – неоднозначность советской национальной политики на примере коренных малочисленных народов Енисейского Севера.
После окончания Гражданской войны в Туруханском крае Енисейской губернии проживали 5,4 тыс. русского населения и около 12 тыс. представителей коренных малых народов Севера обоего пола, которые занимались традиционными для региона видами хозяйственной деятельности, продавали пушнину купцам и торгующим крестьянам северных сел. Их роды, как и прежде, управлялись князьями [1, л. 31, 42], но за годы Первой мировой и Гражданской войн уровень жизни коренного населения Туруханского края упал из-за прекращения завоза муки в казенные хлеб- ные магазины, уменьшения вылова и вывоза рыбы со 180 до 50 тыс. пудов, роста цен на продукты и товары в 2–3 раза [2, л. 52].
Цель исследования . Выявление направлений деятельности органов советской власти в Туруханском крае по решению накопившихся проблем коренных малочисленных народов Севера и созданию условий для их развития в рамках советской модели.
Результаты исследования и их обсуждение . Одной из первых работ по истории проведения советской национальной политики на Енисейском Севере в рассматриваемый нами период стала статья Д.П. Кручинина, опубликованная в 1953 г. в журнале «Вопросы истории». В ней рассматривалась роль ВКП (б) и Туруханской партийной организации в борьбе с князьями и шаманами за переход коренных народов Севера от первобытно-родовых отношений к социалистическим. В статье однозначно утверждалось, что беднота видела в партийной организации своего вождя [4].
Но, как справедливо отмечали авторы многотомной «Истории Сибири», общественные отношения малочисленных народов Севера ко времени установления советской власти имели еще переходный характер. Они включали в себя отношения сотрудничества и взаимопомощи, оставшиеся от первобытнообщинного строя, а также отношения подчинения и эксплуатации, характерные уже для классового общества [3, с. 289].
Изданная в 1971 г. монография эвенка по национальности, доктора исторических наук В.Н. Увачана «Путь народов Севера к социализму. Опыт социалистического строительства на Енисейском Севере (Исторический очерк)» была написана на основе архивных источников и посвящена положительной деятельности партийных организаций по построению социализма у коренных народов Енисейского Севера [5].
Сегодня в среде публицистов и некоторых историков существует мнение, что действия советской власти привели к разрушению традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Историк Ю. Слезкин, работающий в США, в своем концептуальном по характеру исследовании критически проанализировал основные направления государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока в императорский и советский период [6]. Немногочисленные архивные материалы по Енисейскому Северу он использовал только в качестве доказательства правильности собственных теоретических представлений.
Историк А.Н. Агаларханова также доказывала, что наряду с положительными результатами преобразовательной деятельности советской власти на Севере наблюдалось разрушение традиционного образа жизни, ослабление связей между поколениями [7]. Знакомство с литературой, изданной в императорский период, дает нам возможность утверждать, что разрушение традиционного образа жизни и связей между поколениями началось задолго до установления советской власти под влиянием русской колонизации и распространения рыночных отношений в районах их проживания [8, с. 96, 97]. Существенный вклад в изучение проблем коренных народов Енисейского Севера в советский период внесла А.П. Дворецкая.
В нашем исследовании мы опирались на введенные в научный оборот документы, хранящиеся в Государственном архиве Красноярского края. Нами были использованы фонды Енисейского губернского исполнительного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов (Ф. 41); Туруханского районного комитета ВКП (б) (Ф.П-27); Красноярского комитета содействия народностям Енисейского Севера при Красноярском окружном исполнительном комитете (Ф.Р-1845); Красноярского окружного промыслово-кооперативного союза охотников (Красохотсоюз) (Ф.Р-1453); Туруханского союза интегральных (смешанных) кооперативов (Турухансоюз)
(Ф.Р-1137), а также коллекция материалов экспедиций по землеустройству Енисейского Севера (Ф.Р-2275).
Советская власть после окончания Гражданской войны, нуждаясь в северной пушнине для экспортных операций, стремилась привлечь коренное население Севера на свою сторону. Одним из первых шагов стала ликвидация существовавшего в императорский период статуса инородцев, которых теперь уравняли в правах с другими гражданами страны. В районах их проживания были отменены прямые налоги и запрещена эксплуатация коренных северян частным капиталом [9, л. 89]. Однако это являлось не более чем политической декларацией, так как присутствие советской власти в северных регионах страны было весьма условным.
Причем отмена прямых налогов не означала отмены всех налогов с северного населения. В справке о финансовых сборах с коренных жителей Туруханского края говорилось, что каждый охотник в 1921–1922 гг. обязан был платить государственный промысловый налог в размере 21 белки и сдавать внутрикраевое обложение в размере 30 белок [10, л. 31].
Поскольку из-за отсутствия на Севере дееспособных органов советской власти собрать более 50 белок в год с каждого охотника было невозможно, то пушнину предполагалось получать через работу торгово-закупочных организаций. С одной стороны, это способствовало бы укреплению доверия коренных малочисленных народов Севера к советской власти, с другой стороны, стимулировало повышение заинтересованности охотников в увеличении добычи ради приобретения большего количества продовольствия, товаров и оружейных припасов.
Особенностью периода после установления советской власти на северных территориях было то, что управленческие органы, действовавшие в императорский период, уже прекратили свою работу, а дееспособные органы советской власти еще не были созданы [7, с. 20, 21]. Поэтому для обустройства жизни ком- пактно проживавших народов Сибири советская власть пошла на создание в 1922 г. Якутской АССР, Ойротской автономной области на Алтае, Хакасского уезда в Енисейской губернии. А для продвижения советской власти в районы проживания малых народов Севера в марте 1922 г. был организован Полярный подотдел Наркомата по делам национальностей СНК.
Судя по архивным материалам, начало созданию системы советского управления в Туруханском крае было положено в ноябре 1922 г., когда Енисейский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов разделил Туру-ханский край на Тазовский, Затундрин-ский, Илимпийский и Южный инспекторские районы и ввел должности северных инспекторов. Исполком возлагал на них надзор за соблюдением советского законодательства, решением текущих проблем коренных малочисленных народов Севера, ответственность за создание их родовых советов, внесение предложений, направленных на охрану жизни, здоровья, традиционной хозяйственной деятельности, поднятие их культурного уровня. Они обязаны были направлять отчеты о своей деятельности не только в губисполком, но и в Наркоматы по делам национальностей и внутренних дел РСФСР [11, л. 50–55]. Однако северные инспекторы из-за своей малочисленности не имели реальной возможности выполнять возложенные на них многочисленные обязанности на гигантских пространствах Туруханского края.
В начале 20-х гг. в жизни полярной части Енисейского Севера стала возрастать роль Комитета Северного морского пути, в зоне ответственности которого на базе разведанных месторождений каменного угля, графита, медно-никелевых руд в 1922 г. был заложен п. Норильск. В 1924 г. по Северному морскому пути был начат вывоз сибирских пиломатериалов в зарубежные страны [3], но промышленно-транспортное освоение Таймыра практически не затронуло жизнь коренного северного населения.
Для активизации пушного промысла на северных территориях Совет народных комиссаров РСФСР в марте 1923 г. Декретами «Об охоте» и «Об охотничьем сборе» разрешил охотникам промысловых районов заниматься промыслом без уплаты охотничьего сбора и приобретения удостоверений на право охоты [12]. В 1924 г. государство полностью отменило промысловый налог и внутрикраевое обложение коренного населения Туруханского края [10, л. 31].
Для того чтобы перекрыть утечку добываемой в крае пушнины в руки частных предпринимателей, Енисейский уездный исполнительный комитет 23 августа 1923 г. принял логичное на первый взгляд решение закрыть въезд в Туру-ханский край частным предпринимателям и крестьянам, занимавшимся скупкой пушнины [13, л. 21]. Справедливости ради, нужно отметить, что подобные способы защиты коренных северян от «торгашеского произвола» применялись и в досоветский период. Так, осенью 1916 г. Съезд крестьянских начальников Енисейского уезда потребовал от губернатора выселить купцов и торгующих крестьян с Нижней и Подкаменной Тунгусок [14, л. 15, 16]. А в июле 1917 г. Енисейский уездный комиссариат Временного Сибирского правительства рекомендовал Кежемской волостной земской управе не пускать скупщиков пушнины в места проживания коренного северного населения [15, л. 8]. Но купцы и крестьяне обходили вводимые всеми властями ограничения, так как при огромных территориях и малочисленности представителей власти они являлись единственными поставщиками продуктов, товаров и боеприпасов для коренного населения Севера.
Вполне можно согласиться с выводом историка С.В. Бобышева о том, что до 1924 г. мероприятия государства по оказанию помощи малочисленным народам носили бессистемный разовый характер и не могли оказать заметного влияния на хозяйство и быт коренного населения [17, с. 13]. Только созданный в июне 1924 г. Комитет содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК СССР (обычно назывался Комитетом Севера), который возглавил П.Г. Смидович, развернул работу по решению текущих проблем и определению перспектив развития коренных народов Севера. Его региональные отделения были созданы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах. 30 марта 1925 г. начал работу Красноярский окружной комитет содействия развитию народов северных окраин. Его возглавил руководитель Туруханской и Ангарской агентур «Госторга» И.М. Суслов, в состав комитета вошли заведующий Управлением внутренней торговли Красноярского округа Ф.М. Родин и юрист Д.Е. Лаппо [16, л. 83].
Судя по протоколам заседаний Комитета содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК СССР, копии которых хранятся в Государственном архиве Красноярского края, можно говорить о том, что комитет представлял собой площадку для разработки советской национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера. В качестве экспертов выступали известные ученые-этнографы В.Г. Богораз, С.А. Бутурлин, Б.М. Житков, Л.Я. Штернберг и другие специалисты, занимавшиеся изучением жизни народов Севера еще в досоветское время, а также руководители наркоматов и ведомств.
Историк Ю. Слезкин писал, что этнографы, искренне заинтересованные в улучшении жизни коренных народов Севера, получили поддержку советской власти, а большевики, ставшие этнографами, согласились с необходимостью покровительствовать туземцам и обучать будущих чиновников местным языкам и этнографии. Все они верили в прогресс и долг сознательной интеллигенции содействовать тому и другому [6, с. 175, 176].
Следует подчеркнуть, что этнографы и сотрудники Комитета Севера зачастую придерживались разных, а иногда и диаметрально противоположных взглядов на решение обсуждавшихся проблем. В частности, сотрудник Центрального музея народоведения, открытого в Москве в 1924 г., Б. Жуков допускал разницу в развитии мозга между «человеком цивилизованным» и «человеком отсталым», что было обоснованием цивилизаторской миссии со стороны более развитых народов [22].
При обсуждении на заседании в сентябре 1924 г. доклада профессора Б.М. Житкова «О положении племени самоедов и их нуждах» профессор М . Эренбург обвинил его в нежелании видеть у самоедов классовое расслоение и эксплуатацию человека человеком. Б.М. Житков парировал это тем, что у самоедов, как и у многих других коренных народов азиатской части России, еще не сложилось деление на сословия, а сохранившаяся у них система внутри-родовой взаимопомощи защищала сородичей от крайней бедности.
В свою очередь председатель Оздоровительной комиссии Комитета Севера С.М. Мицкевич заявил, что дело ученых выявлять, какие долговременные процессы происходят с коренными северянами и на какой стадии развития они находятся, но в данный период нужно принимать срочные меры по оказанию им неотложной помощи [2, л. 3–6]. Такой подход получил поддержку большинства ученых, партийных и советских работников, принимавших участие в обсуждении, и лег в основу текущей советской национальной политики в районах Севера.
В ближайшее время органам советской власти нужно было наладить доставку на Север продовольствия и товаров, создать новую торгово-закупочную систему, организовать изучение природно-сырьевых ресурсов региона, внедрение простейших форм кооперации, оказание населению медицинской и ветеринарной помощи, начать подготовку специалистов для работы на Севере, в том числе из представителей его коренных малочисленных народов.
Советская власть должна была помогать им в освоении животноводства, пушного звероводства, проведении акклиматизации новых видов пушных зверей, реакклиматизации овцебыков [19, с. 35]. Строительство рыбоконсервных предприятий должно было положить начало формированию на севере индустриальной экономики и переходу части населения на оседлый образ жизни [20, с. 162].
Важную роль в оказании медицинской помощи северным народам сыграло Общество Красного Креста РСФСР (РОКК), которое вместе с Наркоматом здравоохранения РСФСР стало работать в сотрудничестве с Оздоровительной комиссией Комитета содействия малым народностям северных окраин. Благодаря этому, в 1925–1926 гг. на российском Севере работали уже 11 врачебноподвижных отрядов РОКК и 9 врачебноподвижных пунктов, которые занимались обследованием коренного населения и оказанием ему медицинской помощи [18, с. 184]. Работа по преодолению отсталости базировалась на ленинском положении о возможности вовлечения отсталых народов в процесс построения социализма, но цели и способы ее проведения были дискуссионными.
Сотрудник Комитета содействия малым народностям северных окраин С.А. Бутурлин писал, что в работе с бесписьменными малыми народами надо избегать абстрактного теоретизирования о необходимости их ускоренного перевода на оседлый образ жизни или превращения Севера в этнографический заказник [19, с. 56–58, 61]. Члены Комитета понимали, что предстоит длительная систематическая работа по развитию культуры малых народов Севера, созданию письменности, подготовке кадров, которая будет давать результаты только по мере получения образования большинством коренного населения [21, л. 92]. В этот период для обозначения малочисленных коренных народностей, живущих в северных и дальневосточных районах страны, был введен собирательный термин «малые народы Севера».
Форпостами организации жизни по советской модели должны были стать культурные советские северные базы, которые предстояло создавать в местах естественного тяготения хозяйственной деятельности населения. На их территории должны были работать школа-интернат, магазин с продуктами и товарами повседневного спроса, медицинский и ветеринарный пункты. В кадровый состав культбаз предлагалось включать специалистов по оленеводству или рыбному хозяйству в зависимости от специализации хозяйственной деятельности населения. Работники культбаз должны были оказывать государственным органам содействие в изучении северных ресурсов, образа жизни и проблем коренных малочисленных народов Севера, заниматься созданием кооперативных ячеек [2, л. 18, 19, 45, 66, 67].
Таким образом, Комитет содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК определил основные направления работы по решению экономических, социальных и культурных проблем коренных малочисленных народов Севера. О путях решения проблем можно спорить или соглашаться, но они являлись отражением тех представлений, которые оформились в среде ученых, специалистов государственных органов, общественных деятелей в досоветский период и бытовали в советских государственных структурах в рассматриваемый нами период.
Немалые сложности в развитии Ту-руханского края создавало его неоднократное переподчинение в административно-территориальном отношении. В частности, до 1925 г. он являлся составной частью Енисейской губернии, затем был введен в состав Красноярского округа Сибирского края, в 1930 г. вошел в состав Восточносибирского края, а в 1934 г. – в состав Красноярского края.
Важным шагом в организации дееспособных органов советской власти в Туруханском крае стало проведение в
1925 г. административной реформы, в ходе которой край был разделен на несколько районов, возглавляемых в районными исполнительными комитетами (РИКами). В Дудинском, Монастырском (Туруханском), Верхне-Имбатском районах преобладало русское население. Шесть районов – Елогуйский, За-тундринский, Илимпий-ский, Подкаменно-Тунгусский, Тазов-ский, Хетский – были отнесены к национальным районам [23, с. 14–17].
Из-за отсутствия грамотных представителей коренного населения в РИКах национальных районов работали русские сотрудники, которые не знали языков северных народов. Коренные северяне воспринимали их как представителей русского государства, присланных для управления, и называли руководителей терминами «русский», «русский начальник», «большой русский начальник». Это можно рассматривать как показатель «административного» характера отношений между властью и коренным населением.
Для вовлечения коренного населения Севера в процесс преобразовательной деятельности ВЦИК и СНК РСФСР в октябре 1926 г. утвердили Временное Положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР, которое коренному населению представляли как «новый закон тайги». Оно делало ставку на развитие инициативы коренных малых народов Севера через проведение родовых собраний, районных туземных съездов, организацию родовых советов, районных туземных исполнительных комитетов [24]. Тем более что у коренного населения был очевидный запрос на создание системы местного самоуправления, так как за прошедшие годы многие родовые князья утратили былую власть, а альтернативных механизмов не было создано.
Начало созданию родовых советов было положено весной 1927 г. на суглане эвенкийских родов, который провел председатель Красноярского комитета Севера И.М. Суслов. На нем были избраны Чунско-Таймурский-Курнагырский родовой совет, который объединял роды Гарболь, Коченгиль, Курнагырь, Мамоль, и Чунско-Таймурский-Панкагырский родовой совет, который стал органом большого рода Панкагырь. В состав каждого совета было избрано по 3 человека, для каждого района их проживания было избрано по одному родовому судье и намечено по 10 заседателей им в помощь [25, с. 222–223].
При создании родовых советов нередкими были случаи запугивания участников родовых собраний представителями советской власти. Например, инструктор Туруханского РИКа, который проводил суглан самоедов Авамской орды, при помощи угроз настоял на избрании единого родового совета для Пясин-ских и Таймырских самоедов, между которыми существовали серьезные разногласия. Они не подчинились навязанному решению, потребовали отозвать инструктора и отказались признавать созданный им родовой совет [25, с. 239].
Но, несмотря на проблемы, ошибки и перегибы в создании органов родового самоуправления, к весне 1928 г. в Туруханском крае уже работали 35 туземных родовых советов. В Большой тундре работали Авамо-тунгусский, Авамо-самоедский, Боганидо-тунгусский, Ессейско-долганский, Вадеевско-самоедский, Затундринско-якутский, Карасино-самоедский родовые советы.
В Илимпейской тундре были созданы Ессейско-якутский, Илимпейский-тунгусский, Илимпейско-хатангско-агато-тунгусский, Кутарамо-тунгусский, три Чапо-гиро-тунгусских и Панкагирско-тунгусский родовые советы. В Тазовской тундре население организовало родовой совет Баишенских остяко-самоедов, Караконских остяко-самоедов, Тазовских юраков и Чапогиро-панкаевских юраков. В Хетско-левобережной тундре интересы коренного населении представляли Береговой-юракский и Обдорско-юракский родовые советы [25, с. 232– 233].
Н.И. Леонов, который исследовал процессы создания и работы родовых советов на российском Севере, писал, что коренное население зачастую не понимало их значения для своей жизни. Избранные в советы сородичи либо считали выборную должность тяжелой ношей, которая отвлекала их от работы по содержанию семьи, либо сопоставляли себя с бывшими князьями и кичились особыми отношениями с «большими русскими начальниками» [25, с. 242].
Тем не менее, родовые советы стали первым шагом к самоуправлению и налаживанию совместной работы малых народов с органами государственной власти по решению накопившихся и возникающих проблем. По утверждению председателя Комитета содействия народностям северных окраин при ЦИК СССР П.Г. Смидовича, видно, что туземцы неопытной рукой взялись за внедрение новых начал своей жизни [26, с. 262].
Как свидетельствуют архивные материалы, значительная часть коренного населения Туруханского края в тот период выступала против произвола, творимого государственными и частными скупщиками пушнины, против захвата угодий русским населением, высокомерия некоторых представителей советской власти, медицинских работников, сотрудников кооперативных органов.
В частности, сугланы Чунско-Таймурского родового совета и эвенков с рек Лимпе, Таймуры и Чуни, члены Суло-майского остяцкого интегрального коллектива требовали от органов советской власти защитить их угодья от нашествия русских охотников и торгующих крестьян из сел Сумароково и Осиновое. Они жаловались на действия «пьяного» Приангар-ского РИКа, покрывающего русских скупщиков пушнины [25, с. 241, 243]. Сотрудники этнографической экспедиции сообщали, что в Чадобце бесчинствует вечно пьяный представитель советской власти Сотников [13, л. 23].
По утверждению Н.И. Леонова, наряду с требованиями навести порядок участники суглана, проведенного И.М. Сусловым, просили об открытии школы, фельдшерского пункта для лечения людей, присылке мази от чесотки, копыт-ницы и сибирской язвы оленей. И даже были готовы собирать деньги для оплаты фельдшера и лекарств [25, с. 220].
Однако реализация политики по развитию коренных народов Севера, выполнение запросов населения требовали больших финансовых средств, нехватка которых обесценивала деятельность советской власти по строительству школ, открытию медицинских и ветеринарных пунктов, воссозданию сети государственных запасных магазинов, подготовке необходимых кадров, решению многих других проблем.
В одном из первых протоколов Красноярского окружного комитета Севера было записано, что его сотрудники из-за отсутствия финансовых средств вынуждены были заниматься наблюдениями и фиксацией ситуации. Нужно признать, что они пытались использовать те возможности, которые у них имелись. Так, в апреле 1925 г. окружной Комитет Севера ввел ограничения на въезд частных предпринимателей в Туруханский край и добился снятия с объявленных торгов рыболовных угодий, переданных ранее коренным северянам [15, л. 21].
По требованию Комитета в навигацию 1925 г. в Туруханский край для борьбы с эпидемией оспы и брюшного тифа были направлены 2 врачебных отряда Российского общества Красного Креста [15, л. 7]. В 1926 г. в левобережную часть Туруханского края были командированы ветеринарный врач и фельдшер для борьбы с чесоткой оленей [27, л. 3, 4, 10].
Но отряды работали только в теплое время года, а в зимне-весенний период 1927 г. в Илимпейской тундре Турухан-ского края, не получив своевременную медицинскую помощь, от кори погибли 120 человек [18, с. 187]. Поэтому на Севере нужно было создавать сеть стационарных медицинских или фельдшерских пунктов.
Красноярский окружной комитет Севера неоднократно обращался к СНК РСФСР с просьбой увеличить выделение финансовых средств Туруханскому краю, который даже в период упадка хозяйственной деятельности перечислял государству 2 000 000 руб. в год [27, л. 11].
Например, весной 1925 г. на выделенные средства удалось открыть небольшие школы-интернаты на Хатанге, оз. Чиринда, Яновом Стане [13, л. 50]. В 1926 г. Наркомат финансов РСФСР изыскал средства на организацию ветеринарного пункта и строительство хлебозапасных магазинов на фактории Янов Стан, в станке Урядник и на оз. Чи-ринда [2, л. 174]. Но масштабы преобразовательной деятельности в Туруханском крае существенно отставали как от имеющихся потребностей, так и от нарастающего объема проблем.
Государство первоначально видело основной источник финансовых средств для развития Севера в доходах государственных торговых организаций, которые занимались там заготовкой рыбы, пушнины, снабжением северных окраин продуктами и товарами. Они обязаны были передавать государству установленный им процент отчислений с оборотного капитала. Формально это была вполне логичная схема взаимоувязанного развития торгово-закупочной деятельности и одновременного проведения на Севере государственной экономической, социальной и культурной политики.
Но на практике, как говорил на одном из заседаний Комитета содействия народностям северных окраин нарком внутренней торговли СССР А.М. Лежава, использование этой схемы было весьма проблематично. Снабжением северных территорий нужно было заниматься немедленно, тогда как государственным торговым организациям еще предстояло создать свою торгово-закупочную сеть, систему транспортировки, хранения и доставки продуктов и товаров до потребителей, на что, по расчетам Народного комиссариата финансов страны, нужно было не менее 16 000 000 руб. государственных средств. При больших отчислениях с оборотного капитала государственная торговая система была обречена работать в убыток себе, то есть государству нужно было идти на увеличение розничных цен для потребителей. По- этому нарком внутренней торговли высказался за допущение на первых порах частного капитала к снабжению северян [2, л. 10–11].
В условиях НЭПовской либерализации торговой деятельности к торговозакупочным операциям на Севере были допущены многочисленные государственные и кооперативные организации: Всекохотсоюз, Производственный союз, Сельскосоюз, Акционерное общество «Сырье», Русско-английское сырьевое общество, Госторг, Сибторг, Енсоюз и другие организации, которые завозили на Север товары и продукты и занимались скупкой пушнины [27, л. 7].
Но при таком количестве конкурирующих торгово-заготовительных организаций в Туруханском крае на первое место вышли не интересы коренных малочисленных народов Севера, а борьба между ними за получение прибыли. Заготовители настолько подняли закупочные цены на пушнину, что в 1924– 1925 гг. в места проживания эвенков пришло много русских крестьян, которые стали отстреливать летнюю белку для продажи скупщикам пушнины. Дело дошло до вооруженного конфликта между коренным и пришлым населением, которого удалось избежать, только запретив русским охотникам и предпринимателям в 1926 г. переходить на север за Подкаменную Тунгуску и разместив на линии разграничения дополнительные силы милиции [28, л. 12–13].
Тяжелым бременем на охотников ложилась борьба конкурирующих друг с другом торговых организаций, которые открывали в местах промысла многочисленные заготовительные пункты, чтобы не допускать конкурентов к «своим» охотникам. Привязывали к себе охотников, выдавая им продукты и товары на суммы, которые те не могли погасить, использовали алкогольные технологии. Таким образом, система отношений между купцами и охотниками, выработанная еще в императорский период, была воспроизведена в деятельности государственных и кооперативных торгово- закупочных организаций советского времени [29, с. 37–38]. Государство в условиях развернувшейся на Севере конкурентной борьбы частных лиц и заготовительных организаций недополучало пушнину и значительную часть доходов от операций с пушным сырьем.
Для решения социальных, экономических и культурных задач коренных малочисленных народов Севера в рамках советской политической системы нужно было укреплять органы советской власти, развивать родовое самоуправление, принимать меры по развитию традиционных отраслей хозяйственной деятельности, увеличивать расходы на школьное дело, медицинскую и ветеринарную помощь. Эти задачи можно было решить только при наличии достаточных кадровых возможностей, финансовых средств и вовлечении самих коренных малочисленных народов Севера в процесс преобразовательной деятельности.
В апреле 1926 г. Комитет содействия коренным малочисленным народам северных окраин при Президиуме ВЦИК СССР сделал обстоятельный анализ результатов работы на советском Севере за 5 лет после окончания Гражданской войны. Его сотрудники пришли к выводу, что, несмотря на некоторые достигнутые успехи, за это время не удалось обеспечить заметного улучшения жизни коренных северян и искоренить их ограбление частными предпринимателями.
Состояние традиционных промыслов на Севере они квалифицировали как угрожающее [15, л. 33, 172]. По свидетельствам участников Приполярной переписи 1926–1928 гг., скупкой пушнины в Туруханском крае по-прежнему занималось много частных предпринимателей, которые продолжали торговую деятельность, начатую еще в досоветское время [29, с. 37].
Для того чтобы преодолеть хроническую нехватку финансовых средств в районах проживания коренных северных народов, Комитет содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК на Пленуме 23 апреля 1926 г.
предложил перенести затраты на социальное и культурное обустройство их жизни на государственные отраслевые наркоматы.
В частности, Наркомату внутренних дел поручалось взять расходы на финансирование работы родовых советов и районных туземных исполкомов, Наркомату юстиции – на создание и содержание туземных судебных учреждений, Наркомату здравоохранения – на содержание стационарных лечебных заведений и передвижных врачебных отрядов, Наркомату земледелия – на содержание и работу ветеринарных пунктов, Наркомату просвещения – на создание, содержание и развитие школьной сети, ВЦИК – на создание и содержание культурных баз [30, л. 173].
Переход на предложенную систему централизованного бюджетного финансирования позволил в 1928 г. организовать в Туруханском крае 40 родовых советов, обеспечить работу 4 школ-интернатов, 6 врачебных, 2 фельдшерских и нескольких ветеринарных пунктов, направить 23 человека из представителей коренных малочисленных народов Туруханского края на обучение в Восточный институт Ленинградского университета [31, л. 5].
Для наведения порядка в хозяйственной и финансовой деятельности на территории Туруханского края экономическое совещание при СНК РСФСР приняло решение о прекращении работы конкурирующих друг с другом государственных, кооперативных организаций и частных лиц и о создании единой кооперативной промысловой сети интегрального типа под эгидой Всекохотсоюза. Она должна была заниматься не только торгово-закупочной деятельностью, но и развитием экономики за счет создания производственных кооперативов. Благодаря этому решению, в 1927 г. был создан Туруханский союз интегральных кооперативов (Туруханский Интегралсоюз), который должен был работать в сотрудничестве с органами власти и родовыми советами [32, л. 22].
В Туруханском крае к этому времени уже имелся некоторый опыт организации кооперативной деятельности коренного населения с работавшими здесь торгующими организациями. Северяне, теряя связь с частными скупщиками пушнины, записывались в снабженческие кооперативы, которые занимались скупкой пушнины, завозом муки, боеприпасов и товаров.
Если в 1922/1923 хозяйственном году в крае работали 5 первых снабженческих кооперативов, то в 1926/1927 г. было уже 44 кооператива, которые содержали 79 лавок. Число пайщиков Интегралсо-юза за указанный период выросло с 3232 человек в 1926/1927 г. до 5102 человек в 1927/1928 г.
Наряду со снабженческой кооперацией в Туруханском крае получила развитие производственная кооперация, созданием которой занимался еще Енисейский губернский промысловокооперативный Союз рыбаков (Ен-губпромрыбаксоюз). По данным на 1 февраля 1925 г., в его системе на договорных началах работали 50 сезонных рыболовецких артелей с переменным составом членов [33, л. 9, 18]. Осенью 1929 г. Енгубпромрыбаксоюз был передан в состав Туруханского союза интегральных кооперативов, благодаря чему в 1929/1930 г. в Туруханском крае стали работать 33 укрупненных и относительно стабильных по составу рыболовецких кооперативов, которые выловили более 14000 ц рыбы, или почти 70 % от объема ее довоенного вылова и вывоза в крае [34, л. 6].
Правление Туруханского Интеграл-союза в 1927 г. получило в Центральном сельскохозяйственном банке кредит в размере 200 000 руб. на создание собственных простейших производственных объединений [35, л. 24]. За счет полученных средств оно сумело создать несколько объединений по совместной охоте и выпасу оленей, 2 полеводческих, 6 огороднических, 7 оленеводческих кооперативов, 3 кустарно-промысловых специализированных кооператива, со- здало питомник по разведению оленей, наладило промысел дельфинов, в котором были заняты Бахтинская, Инбатская, Чулковская и Лебедевская охотничьи артели [36, л. 53, 55].
На годы первой пятилетки (1928– 1932 гг.) руководство Интегралсоюза запланировало охватить кооперацией 74,9 % русского и 85 % коренного населения, создать более 220 производственных коллективов, организовать 2 коллективных звероводческих, 24 оленеводческих, 34 кролиководческих хозяйства, 4 племенных питомника оленей, расширить опытный питомник черно-бурых лисиц и песцов [36, л. 27–28]. Этот план был излишне оптимистичным и отражал завышенные ожидания от работы Инте-гралсоюза. Тем не менее к концу 1929 г. в производственных кооперативах Туру-ханского Интегралсоюза во всех районах Туруханского края состояли 2036 хозяйств, или 79,2 % от их общего количества в крае [27, л. 5].
Для оптимизации управления огромным регионом с неоднородным по составу населением и специализацией традиционной хозяйственной деятельности в июне 1928 г. был образован укрупненный Туруханский район. В его состав вошли Тазовский, Хатангский и Илимпийский национальные районы, а также все сельские советы и станки, которые до этого входили в Дудинский, Монастырский (Туруханский), Верхне-Имбатский районы с русским населением.
Накопленный в Туруханском районе опыт работы затем был использован в налаживании деятельности Таймырского национального (ДолганоНенецкого) и Эвенкийского национального округов, созданных решением ВЦИК 10 декабря 1930 г. [37]. Турухан-ский РИК, возглавивший вновь созданный район, занимался решением широкого комплекса экономических, социальных и культурных проблем его коренного и русского населения.
На промысловых территориях в бассейнах рек Таз и Н. Баиха и в других местах, пострадавших в прошлые годы от истребления белки, РИК ввел режим заказников, в охотничьем промысле запретил добычу невыходной пушнины и использование плашек, самострелов, стрихнина [38, л. 1–2].
Часть социальных проблем района его руководство решало за счет средств, полученных за счет введения самообложения населения. В 1928 г. за счет этого источника планировалось получить 15 000 руб. на строительство новой больницы в Туруханске. Но вышестоящие органы, обеспокоенные растущим недовольством населения, наложили запрет на его проведение в северных районах страны. В результате этого уже запланированное строительство больницы оказалось на грани срыва [39, л. 3].
Районному руководству пришлось срочно «просить» о финансовой помощи правление Туруханского Интегралсоюза и дирекцию государственной организации Сибторг, которая занималась скупкой пушнины и снабжением населения Туруханского края промышленными товарами. Руководство Сибторга выделило 10 000 руб. на строительство больницы, Дома туземца, работу ихтиологической экспедиции по изучению рыбных запасов р. Пясина и организацию курсов по подготовке работников из коренных народностей Севера. Это создавало прецедент для решения социальных проблем, но непредусмотренные «целевые» отвлечения денежных средств организаций болезненно сказывались на их финансовых показателях [39, л. 85, 86, 89].
В Туруханском районе, как и в стране, принимались меры по привлечению средств населения в сберегательные кассы, которые были открыты в Турухан-ске, Верхне-Инбацком, Ярцево, Ворогово, Подкаменной Тунгуске, Игарке и с. Дудинском. На первых порах коренные северяне, не делавшие ранее денежных накоплений, всячески уклонялись от получения сберегательных книжек [39, л. 3–4].
Но, несмотря на все трудности, бюджет Туруханского РИКа с каждым годом становился больше. В 1929 г. централизованные поступления в бюджет составили 319 000 руб., и дополнительно к ним из других источников было привлечено еще 325 000 руб. [39, л. 67]. Это дало возможность активизировать культурно-просветительскую работе на Енисейском Севере. В частности, в 1929 г. в станке Янов Стан в Тазовском туземном районе был открыт Дом туземца [39, л. 4, 9]. За зимний период 1929 г. в нем удалось провести 7 бесед и 4 громкие читки, на которых присутствовали от 10 до 15 человек [40, л. 32–33]. Очевидно, что эта эпизодическая и не очень компетентная работа не могла оказать значительного влияния на взгляды коренного населения района. В 1929 г. в Тазовском районе также был организован первый Красный чум, сотрудник которого занимался культурно-идеологической работой с населением, проживавшим в бассейнах рек Елогуй, Сым, Турухан.
В Туруханском районе, как и во всем одноименном крае, постепенно начинали заниматься обучением детей коренных северян. Многие северяне были согласны с их обучением по месту жительства, разрешали проводить занятия в своих чумах, но противились отправке детей в русские села, считая, что там они будут перенимать у русских их худшие черты [41, с. 201–202].
В северных школах еще не было единых методик и сроков обучения. Каждая из них представляла собой самостоятельную площадку по наработке опыта организации учебного процесса с учетом особенностей хозяйственной деятельности населения и времени сезонных перекочевок. Почти везде учебу начинали с изучения русского языка как государственного языка общения. Но обучение детей в школе-интернате национального поселка Янов Стан начиналось по составленному учителем Г.Н. Прокофьевым букварю остяко-самоедского языка [40, л. 35]. Затем ученики начинали изучать русский алфавит и чтение на русском языке [41, с. 207].
Работники органов советской власти видели в выпускниках школ, освоивших русский язык, возможность готовить национальные кадры для партийных, советских, хозяйственных и кооперативных организаций. Тем более что дети, проживавшие в интернате, быстрее осваивали идеологические установки, новые формы обустройства жизни и становились проводниками требований и представлений советской власти в отношении взрослого населения.
Туруханский РК ВКП (б) после проверки работы школы-интерната потребовал от Г.Н. Прокофьева улучшить питание учеников, организовать лечение детей, больных трахомой, проведение утренней гимнастики, дополнительных занятий с отстающими школьниками, обучение девочек портняжному делу, а мальчиков – сапожному [40, л. 37].
Выполнение большинства этих требований зависело не столько от директора школы, сколько от закрепления районными властями за школой-интернатом медицинских работников, выделения дополнительных ставок учебных мастеров, финансовых средств для приобретения продуктов питания и необходимого для учебного процесса оборудования. Но принятие вышеуказанного решения Ту-руханского РК ВКП (б) являлось условием подключения советских и хозяйственных органов к решению обозначенных им проблем.
Несмотря на эти вполне полезные для населения начинания, отношение многих коренных жителей Тазовского туземного района к советской власти, судя по докладу на заседании Туруханского РК ВКП (б) 21 ноября 1929 г., было отрицательным. На основе архивных источников мы попытались выяснить, чем же органы советской власти вызывали недовольство коренного населения. Как оказалось, оно возмущалось требованиями русских работников районных исполнительных комитетов, не знавших их языка и обычаев, выполнения принятых РИКом решений. Жителей Янова Стана раздражала борьба власти против шама- нов, которую они рассматривали как грубое вмешательство в их образ жизни.
Выходцы из коренных северян секретари Тазовского туземного РИКа М. Вагин и С. Земцов, секретарь Тымско-Караконского родового Совета Р. Кандин, инструктор Туруханского Интегрального союза Ю. Алексинов, по мнению соплеменников, не столько защищали их интересы, сколько с особым рвением исполняли поручения новой власти. В частности, они по требованию органов власти произвольно разделили коренное население на кулаков, середняков и бедняков, что было совершенно непонятно северянам с их родовой организацией жизни [40, л. 2–5].
Многие северяне болезненно воспринимали вытеснение с севера частных скупщиков пушнины, что разрушило несправедливую, но персонально настроенную систему обеспечения их необходимыми товарами и продуктами. А Туру-ханский Интегалсоюз еще не сумел отладить своевременную доставку товаров и продуктов в районы проживания коренного населения, из-за чего в 1929 г. жители сел Церковенское, Сидоровское, станков и кочевий района не смогли своевременно выйти на промысел. Судя по архивным источникам, проблемы, с которыми сталкивалось коренное население Тазовского национального района, были характерны для всех районов Туру-ханского края, и в каждом из них часть коренного населения проявляла недовольство советской властью.
Для восстановления авторитета местной власти в Тазовском туземном районе Туруханский РК ВКП (б) принял решение о проведения показательного суда над национальными функционерами Р . Кандиным, М. Вагиным, С. Земцовым и Ю. Алексиновым среди их сородичей [40, л. 7]. Этот суд имел явно выраженный политический характер.
Государству, которое поставило задачу изменить образ жизни коренных малочисленных народов Севера, нужно было не только наказывать своих представителей, но и фактически создавать новую систему управления и жизнеобеспечения с участием самого коренного населения, а также согласовывать, регулировать разные элементы ее функционирования. Это была трудная, длительная работа с множеством взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, с неизбежными издержками метода проб и ошибок, которая на практике превратилась в навязывание коренным малочисленным народам Севера представлений власти о парадигме развития страны и их месте в ее реализации.
Тем не менее в 1930 г. во всех родах Туруханского края уже работали родовые советы, была сформирована система районных партийных и советских органов. Можно дискутировать по поводу качества ее работы, но очевидно, что в рамках существующей в стране политической системы шло накопление опыта управленческой деятельности и повышение квалификации управленческого персонала.
Постепенное увеличение бюджета Туруханского края давало возможность увеличивать расходы на решение социальных и культурных задач. Так, расходы на народное образование в крае в период с 1925/1926 по 1929/1930 г. были увеличены с 12826 до 102678 руб. Значительно выросло выделение средств на развитие медицинского обслуживания и оказание ветеринарной помощи. В 1930 г. здесь уже работали 23 школы, 3 Дома туземца, 7 изб-читален, в которых были 3 кинопередвижки. Еще 2 кинопередвижки использовал Интегралсоюз для работы с коренными жителями Туруханского края. Были сделаны первые шаги по радиофикации населенных пунктов.
В Туруханске была построена больница на 30 коек и выделены средства на строительство больницы в Хатанге. На территории края функционировали 6 ветеринарных пунктов и 2 ветучастка. На ближайшую перспективу было запланировано строительство школы в Ярцево, открытие при поддержке Комитета Севера детских яслей в Елогуе и Фарково, введение обучения старшеклассников знаниям и навыкам, необходимых для охотников [39, л. 85–86].
Вместе с этим партийные и советские работники Туруханского района вынуждены были признать, что многие проведенные ими начинания не дали ожидаемого результата. За прошедшее время не удалось отладить тесное взаимодействие между органами советской власти, в которых работали русские специалисты, и национальными родовыми советами, как органами самоуправления. Дома туземцев и избы-читальни, которые должны были стать проводниками советской политики и русской культуры, не стали центрами организации новой жизни, и коренное население не проявляло заметного интереса к их работе. Созданные при райисполкоме земельная секция и женская комиссия работали плохо, так как для проведения землеустройства были нужны специалисты, а для работы с женщинами понимание того, что нужно делать. Организованные в районе ячейки Осоавиахима и других обществ не работали из-за отсутствия технически подготовленных руководителей [40, л. 42].
К концу 20-х гг. ХХ века стало очевидно, что управление экономическими и социально-культурными процессами в Туруханском крае в условиях выделения финансовых средств разными наркоматами делало местные органы власти их фактическими придатками и не позволяло заниматься гибким распределением финансовых средств с учетом меняющихся обстоятельств. В районах проживания коренных малочисленных народов Севера нужна была другая форма организации местной власти с расширением ее полномочий и усилением ответственности. Реакцией государства на эту потребность стало создание на Севере страны 8 национальных округов, в том числе Эвенкийского и Таймырского (ДолганоНенецкого).
Заключение. Советская власть после Гражданской войны пыталась взять под свой контроль северные территории, населенные коренными народами. Но, не имея там своих органов, могла лишь декларировать запрет их эксплуатации и отмену прямых налогов. Для расширения государственного влияния в Туру-ханском крае и установления контроля за закупкой пушнины Енисейский губернский исполнительный Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов разделил край на инспекторские районы, ввел должности северных инспекторов и попытался ограничить доступ в него частных предпринимателей.
Разработка и реализация программ оказания систематической помощи малым народам Севера и политики их вовлечения в строительство социализма началась только после создания в 1924 г. Комитета содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК. В Красноярске был создан окружной комитет содействия, который отвечал за ситуацию в Туруханском крае.
Его работа по доставке на Север продовольствия и товаров, созданию новой торгово-закупочной системы, оказанию коренному населению медицинской и ветеринарной помощи, организации школьного обучения, налаживанию идеологической и культурнопросветительной деятельности сдерживалась из-за отсутствия в регионе дееспособных органов власти, необходимых финансовых средств и стремления улучшать жизнь коренных северян административным путем.
Привлечение в Туруханский край в условиях НЭПа большого количества государственных и кооперативных торговых организаций для решения вышеназванных проблем привело к их конкуренции, распространению в работе с населением купеческих технологий досоветского периода, истреблению охотничьих ресурсов и обострению конфликта между коренным и пришлым русским населением.
Создание и работу туземных райисполкомов, родовых советов, судебных органов, учреждений здравоохранения, ветеринарной помощи, школьного образования, культурных баз удалось ускорить, переложив финансирование на наркоматы РСФСР.
Советская власть пыталась переформатировать расшатанный в досоветский период традиционный образ жизни и хозяйственной деятельности коренных северян в соответствии с преобладавшими в то время официальными представлениями. Ответственность за развитие хозяйственной деятельности, организацию торгово-закупочной деятельности, создание сбытовых и производственных кооперативов была возложена на Туру-ханский союз смешанных (интегральных) кооперативов. Это был вполне реальный путь повышения эффективности северной экономики и получения финансовых средств на развитие Турухан-ского края за счет вовлечения самого коренного населения в преобразовательную деятельность. Решению социальноэкономических и культурных проблем населения способствовало создание укрупненного Туруханского района и налаживание сотрудничества с создавае- мым самоуправлением коренных народов в форме родовых советов.
В рассматриваемый нами период советская власть смогла взять под свой контроль территорию Туруханского края, вытеснить частных скупщиков пушнины, начать решение экономических, социальных и культурных проблем его коренных народов, провести советизацию края, создав органы власти, организовав самоуправление коренных народов, вовлечь их в экономическую деятельность на основе принятой в стране социальноэкономической модели.
С точки зрения представителей советской власти, к концу 20-х гг. в Туру-ханском крае удалось добиться положительных результатов в социальнокультурной и экономической деятельности. Но значительная часть его коренного населения, искусственно разделенного в соответствии с классовым подходом на кулаков, середняков и бедняков, воспринимала эту деятельность как грубое вмешательство «русского» государства в свою жизнь.
Список литературы Деятельность органов советской власти в Туруханском крае в период от окончания гражданской войны до образования национальных округов
- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 41. (Енисейский губернский исполнительный Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 608.
- ГАКК. Ф. Р-1845 (Красноярский комитет содействия народностям Енисейского Севера при Красноярском окружном исполнительном комитете). Оп. 1. Д. 3.
- История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 4. Сибирь в период строительства социализма. Л., 1968. 501 с.
- Кручинин Д.П. Экономический и культурный расцвет народов Советского Севера // Вопросы истории. 1953. № 2. С. 29–49.
- Увачан В.Н. Путь народов Севера к социализму. Опыт социалистического строительства на Енисейском Севере (Исторический очерк). М.: Мысль. 1971. 391 с.
- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.
- Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и Советской России в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 6. С. 19–26.
- Бахрушин С.В. Сибирские туземцы под русской властью до революции 1917 года // Советский Север: сб. ст./Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК; под ред. П.Г. Смидовича, С.А. Бутурлина, Н.И. Леонова. М.: Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК, 1929. 278 с. С. 66–98.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 42.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 43.
- ГАКК. Ф. 41. Оп. 1. Д. 608.
- Декреты. URL: http://www.zaki.ru/nav/10/decret/1923/ (дата обращения: 10.01.2019).
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 12.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 11.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 1.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 2.
- Бобышев С.В. Комитеты Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока: 1924– 1935 гг.: автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.02. Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2001. 42 с.
- Богданов Ф.Г. Медицинская помощь малым народностям Крайнего Севера // Советский север. 1929. С. 182–199.
- Бутурлин С.А. Что такое «Север», кто там живет и будущее мировое значение его // Советский север. 1929. С. 5–65.
- Клыков А.А. Рыбные промыслы // Советский север. 1929. С. 151–163.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 3.
- Шнирельман В.А. В поисках самобытности: У истоков советского мультикультурализма // Неприкосновенный запас. 2011. № 4 (78). С. 149–166.
- Дворецкая А.П. Районирование территории Приенисейского региона в 1924–1925 годах // Новосибирская область в контексте российской истории: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Новониколаевской губернии. Новосибирск: Управление гос. архивной службы Новосибирской обл., 2011. Ч. 2. С. 14–17.
- Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25.10.1926 года «Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР». URL: https://www.lawmix.ru/docs_cccp/7425 (дата обращения: 01.02.2019).
- Леонов Н.И. Туземные советы в тайге и тундрах// Советский север. 1929. С. 219–257.
- Смидович П.Г. На четвертом году (Национальное районирование и землеустройство малых народов Севера) // Советский север. 1929. С. 258–272.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 4.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 156.
- Баташов М.С. Проведение Приполярной переписи на XII переписном участке регистратором Н.В. Сушилиным // Туруханская экспедиция Приполярной переписи: Этнография и демография малочисленных народов Севера: сб. науч. тр./ отв. ред. Д.Дж. Андерсон. Красноярск: Поликор, 2005.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 3.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 4.
- ГАКК. Ф. Р-1453 (Красноярский окружной промыслово-кооперативный союз охотников (Красохотсоюз) Всероссийского промыслово-кооперативного союза охотников). Оп. 1. Д. 22.
- ГАКК. Ф. Р-1137 (Туруханский союз интегральных (смешанных) кооперативов (Турухансоюз) Восточно-Сибирского краевого союза охотничьих и рыбацких интегральных кооперативов). Оп. 1. Д. 1.
- ГАКК. Ф. Р-2275. Оп. 1. Д. 30.
- ГАКК. Ф. Р-1845. Оп. 1. Д. 54.
- ГАКК. Ф. П-27 (Туруханский районный комитет КПСС). Оп. 1. Д. 85.
- Постановление ВЦИК от 10 декабря 1930 года. «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3682.htm (дата обращения: 20.02.2019).
- ГАКК. Ф. Р-2275 (Коллекция материалов экспедиций по землеустройству Енисейского Севера). Оп. 1. Д. 7.
- ГАКК. Ф. П-27. Оп. 1. Д. 85.
- ГАКК. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 84.
- Леонов Н.И. Русские школы на севере // Советский север. 1929. С. 200–218.