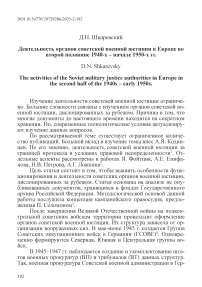Деятельность органов советской военной юстиции в Европе во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.
Автор: Шкаревский Д.Н.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена деятельности органов советской военной юстиции, функционировавших на территории европейских государств. Работа основана на ранее не опубликованных документах, хранящихся в фондах Государственного архива Российской Федерации. Цель статьи состоит в выявлении особенностей деятельности рассматриваемых органов. Методологической основой работы выступает подход, предложенный П. Соломоном. Во второй половине 1940-х гг. происходил непрерывный поиск оптимальной структуры рассматриваемых органов. Этот процесс сопровождался сокращением их численности и штатов. Компетенция военной юстиции за рубежом отличалась наличием более широких полномочий. Они рассматривали не только специально определенные дела, но и дела, относившиеся к юрисдикции органов общей юстиции, а также крупные дела политического характера, в т.ч. в отношении иностранцев. До начала 1950-х гг. их рассмотрение проводилось по законам военного времени. Кадров с высшим юридическим образованием не хватало. Несмотря на достаточно высокий престиж службы за границей, количество вакансий в органах военной юстиции, особенно во второй половине 1940-х гг., было большим (30%). Нагрузка на работников была относительно небольшой, но количество рассматриваемых дел распределялось неравномерно. В рассматриваемый период данные органы были задействованы в проведении нескольких уголовно-правовых кампаний одновременно. Их деятельность вызывала жесткую критику руководства. Пристальное внимание уделялось «мягкой», «либеральной», «недостаточно жесткой» судебной практике по политическим, воинским, имущественным делам. Пристальное внимание руководства к военной юстиции объясняется подозрениями в наличии коррупции.
Советская юстиция, специальная юстиция, военные трибуналы, военная прокуратура, И. В. Сталин, Н. М. Рычков, ГДР
Короткий адрес: https://sciup.org/149148359
IDR: 149148359 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-192
Текст научной статьи Деятельность органов советской военной юстиции в Европе во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.
The activities of the Soviet military justice authorities in Europe in the second half of the 1940s – early 1950s.
Изучение деятельности советской военной юстиции ограничено. Большие сложности связаны с изучением органов советской военной юстиции, дислоцированных за рубежом. Причина в том, что многие документы до настоящего времени находятся на секретном хранении. Но, современные геополитические условия актуализируют изучение данных вопросов.
По рассматриваемой теме существует ограниченное количество публикаций. Большой вклад в изучение темы внес А.Я. Кодин-цев. По его мнению, деятельность советской военной юстиции за границей протекала в условиях правовой неопределенности1. Отдельные аспекты рассмотрены в работах Я. Фойтцик, А.Е. Епифанова, Н.В. Петрова, А.Г. Ложкина2.
Цель статьи состоит в том, чтобы выявить особенности функционирования и деятельности советских органов военной юстиции, дислоцированных за рубежом. Статья основана на анализе не опубликованных документов, хранящихся в фондах Государственного архива Российской Федерации. Методологической основой данной работы послужила концепция кампанейского правосудия, предложенная П. Соломоном3.
После завершения Великой Отечественной войны на подконтрольной советским войскам территории происходит оформление органов советской военной юстиции. Их структура зависела от организации вооруженных сил. В мае-июне 1945 г. создается Группа Советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ)4. Одновременно формируются Северная, Южная и Центральная группы войск.
В 1945–1947 гг. наблюдается создание и укомплектование штатов военных прокуратур (ВП) и трибуналов (ВТ) данных структур. Так, военная прокуратура Советской военной администрации в Гер- мании (СВАГ) была образована в ноябре 1945 г., но начала свою работу с февраля 1947 г. Процесс укомплектования штатов затянулся. Военной прокуратуре СВАГ подчинялись военные прокуратуры земель, гарнизонов, участковые военные прокуратуры при дирекциях железных дорог.
В сентябре 1946 г. был создан военный трибунал СВАГ с подчинением ему уже действовавших военных трибуналов пяти провинций (земель) и военного трибунала советского сектора г. Берлина. Укомплектование кадрами данных органов также проводилось с трудом: более 30% штатных единиц были вакантны. На практике свою работу трибунал СВАГ также начал лишь с января 1947 г.5 В течение 1945–1949 гг. военные прокуратуры и трибуналы дивизий советских войск, дислоцированных в Германии, были ликвидированы.
Для рассматриваемого периода характерны периодические структурные реорганизации данной системы. Так, в декабре 1945 г. приказом Народного комиссара юстиции № 073 был сформирован военный трибунал железнодорожного транспорта Советской зоны оккупации в Германии во главе с бывшим председателем военного трибунала Оренбургской железной дороги майором юстиции С. Д. Климович6.
В июле 1946 г. приказом № 037 Министра юстиции трибуналы Центрального управления военных сообщений (ЦУП ВОСО) Красной армии и Министерства речного флота (МРФ) были присоединены к военному трибуналу железнодорожного транспорта. Это объяснялось «незначительным объемом работы военного трибунала ЦУП ВОСО КА и МРФ в Германии и необходимостью обеспечения единства судебной практики». Объединенный трибунал получил название «Военный трибунал железнодорожного и водного транспорта Советской зоны оккупации Германии при Советской военной администрации в Германии». Его также возглавил С. Д. Климович. Личный состав, дела и имущество военного трибунала ВОСО КА и МРФ были переданы в ведение объединенного военного трибунала7.
В январе 1947 г. приказом Министра юстиции № 002 военный трибунал железнодорожного и водного транспорта оккупационной зоны в Германии был расформирован. Его личный состав и имущество переданы военному трибуналу Советской военной администрации в Германии. Этим же приказом создавались военный трибунал Советской Военной Администрации в Германии, три военных трибунала провинций, два военных трибунала федеральных земель и Военный трибунал Берлина. На военный трибунал Советской Военной Администрации в Германии возлагался судебный надзор и руководство военными трибуналами провинций, земель и Берлина8.
В 1948 г. за границей из общего числа 351 советских военных трибуналов находится 71 военный трибунал или 20%9. К 1952 г. на территории Германии действовали трибуналы ГСОВГ, армий, земель, гарнизонов, воздушной армии, войск МГБ. Их деятельность обеспечивали соответствующие прокуратуры.
Органы военной юстиции, дислоцированные за рубежом, подчинялись по ведомственной принадлежности Главной военной прокуратуре, Военной коллегии Верховного суда СССР, а также соответствующим управлениям Министерства юстиции СССР (Главному управлению военных трибуналов, Главному управлению военных трибуналов железнодорожного и водного транспорта).
В послевоенные годы происходило сокращение численности органов военной юстиции. Их штаты систематически пересматривались. Прослеживается тенденция к их сокращению. Часть работников «оставалась за штатом». Такие сотрудники либо переводись в другие органы военной юстиции за границей, либо направлялась в СССР10. Пребывание кадрового состава органов военной юстиции за рубежом контролировалось Комиссией ЦК ВКП (б) по выездам за границу11. Несмотря на это, большое число сотрудников работало за границей более установленного срока.
Анализ компетенции военной юстиции представляет некоторую сложность. Значительное количество документов, регламентировавших их деятельность, по-прежнему находится на секретном хранении.
Органы военной юстиции рассматривали все дела в отношении военнослужащих и некоторые дела в отношении гражданских лиц. К их юрисдикции относились воинские преступления (глава IX УК РСФСР), политические (глава II УК РСФСР), должностные (служебные) (глава III УК РСФСР), хозяйственные (ст. 132 УК РСФСР и др.), преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (глава VI УК РСФСР), имущественные преступления (закон 7.8. 1932 г., глава VII УК РСФСР).
Компетенция советских органов военной юстиции за границей в послевоенный период была более широкой. При этом большое влияние на их деятельность, а также на компетенцию, оказывало военное руководство. Наряду с отмеченными выше категориями уголовных дел, органы военной юстиции, дислоцированные за рубежом, рассматривали следующие группы дел.
Во-первых, крупные уголовные дела в отношении военных преступников-иностранцев. Например, военный трибунал Берлинского гарнизона рассматривал дела руководства нацистских концентрационных лагерей (Заксенхаузен, Равенсбрюк)12.
Во-вторых, дела гражданско-правового характера. Данная категория дел рассматривалась военными трибуналами уже в период Великой Отечественной войны. В послевоенный период, дислоцированные за границей советские воинские части оказались в сложной ситуации. Так, Главноначальствующий Советской военной администрации в Германии маршал В. Д. Соколовский в январе 1947 г. отмечал: «В зоне Советской оккупации Германии среди советских граждан возникают гражданско-правовые взаимоотношения (трудовые, исковые и бракоразводные), требующие своего разрешения в судебном порядке. Кроме того, иногда у советских органов системы СВАГ возникает необходимость предъявления гражданского иска к советскому гражданину, работающему здесь, о погашении задолженности или о возмещении причиненных убытков. Такие риски также подлежат рассмотрению в судебном порядке. Прошу обязать военные трибуналы СВА [Советской военной администрации] провинций и федеральных земель, военный трибунал Советского сектора Берлина и военный трибунал СВАГ рассматривать этого рода дела»13.
Министр юстиции СССР Н.М. Рычков поддержал идею маршала и подготовил проект указа Президиума Верховного Совета СССР «О рассмотрении гражданских дел военными трибунами за границей». Проект предусматривал разрешение трибуналам рассматривать иски «войсковых частей, соединений и учреждений к военнослужащим и лицам вольнонаемного состава о возмещении причиненного ими ущерба». Также он возлагал «на военные трибуналы при Советской военной администрации в Германии рассмотрение возникающих в Советской зоне оккупации гражданских дел по спорам между советскими организациями и советскими гражданами, а также по искам советских граждан друг к другу, за исключением бракоразводных дел»14.
Но, эта инициатива не получила поддержки руководства страны. В результате в июне 1947 г. был утвержден совместный приказ Министра вооруженных сил и Министра юстиции № 041/036 «О рассмотрении гражданских дел военными трибуналами Вооруженных Сил СССР, дислоцированными за границей». Приказ воспроизводил текст вышеназванного проекта указа Президиума Верховного Совета СССР15.
В-третьих, на основании приказа СВАГ № 200 от 15.08. 1947 г. к их ведению были отнесены трудовые споры и дела о нарушении рабочей дисциплины вольнонаемными служащими Советской военной администрации в Германии16.
Таким образом, в компетенции военной юстиции достаточно четко выделяются следующие категории дел: уголовные дела с уча- стием советских граждан, уголовные дела с участием иностранных граждан, дела гражданско-правового характера (в т.ч. по трудовым спорам). В отношении советских граждан применялось советское законодательство, в отношении иностранных граждан европейских государств – советское и международное законодательство (например, законы Контрольного Совета)17.
Судопроизводство в военных трибуналах, дислоцированных за рубежом, длительное время проводилось на основании «законов военного времени». Постановление Верховного суда СССР от 27.11. 1945 г. № 13/14/у «Об ответственности военнослужащих за преступления, совершенные ими за границей» определило, что «ввиду особых условий, в которых находятся советские войска за границей, военнослужащие этих войск за совершенные ими преступления несут ответственность по законам военного времени»18. С октября 1951 г. в отношении советских граждан стали применяться нормы мирного времени. По данным А.Я. Кодинцева на практике применение норм военного времени в отношении данной категории лиц продолжалось до конца 1952 г.19 Дела в отношении иностранцев рассматривались по законам военного времени до февраля 1953 г.20
По данным на 1948 г. всего за границей проходили службу 150 оперативных работников трибуналов и 158 секретарей, т.е. всего 308 военнослужащих21. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. количество советских военных судей за рубежом сокращалось. Если в 1948 г. в трибуналах Группы Советских оккупационных войск в Германии числилось 45 оперативных работников (военных судей), то к 1952 г. – 13. Сотрудники, назначаемые в органы юстиции за границей, проходили строгий отбор. Но квалифицированных кадров не хватало. Так, в начале 1950-х гг. до 40% сотрудников ВП, работавших за границей, не имели высшего образования22.
Подбором кадров занимались соответствующие управления Министерства юстиции: Главное управление военных трибуналов (ГУВТ), Главное управление военных трибуналов железнодорожного и водного транспорта (ГУВТ ж.д. и в.т.)23. После этого они должны были пройти специальные проверки и быть утверждены партийными органами. Сложные процедуры назначения и ротации привели к тому, что к началу 1950-х гг. уровень образования советских военных юристов в Германии был ниже, чем в СССР24.
Военная юстиция испытывала острую нехватку адвокатов. В январе 1947 г. маршал В.Д. Соколовский обратился к министру юстиции Н.М. Рычкову со следующими предложениями: «Вопреки требованиям ст. 111 Конституции СССР, ст. 8 Закона о судоустройстве СССР … ст. ст. 55 и 415 УПК РСФСР судебные процессы в военных трибуналах в Советской зоне оккупации Германии по всем делам проводятся без участия адвокатов, и поэтому без прокуроров, причем даже в тех случаях, когда сами обвиняемые (советские граждане и немцы) просят о предоставлении защиты, им в этом отказывают за неимением здесь советских адвокатов. Что касается немецких адвокатов, то значительную часть из них нельзя допускать к участию в советских военных судах по политическим соображениям, к тому же никто из немецких адвокатов не знает советских законов ... Кроме того, нельзя допустить, чтобы советского гражданина защищал немецкий адвокат. Назрела необходимость по некоторым делам, особенно в тех случаях, когда об этом просят обвиняемые, допускать участие в судебном процессе адвоката и прокурора. Прошу командировать 2-3 адвоката на каждый военный трибунал … и 3 адвоката в военный трибунал СВАГ. Этих адвокатов, видимо, нельзя оставлять на самоокупаемости, а необходимо будет определить им твердые ставки заработной платы». Н. М. Рычков поддержал предложения В. Д. Соколовского25.
В результате в Германию, после прохождения спецпроверки, были направлены адвокаты, имевшие большой опыт работы в советских органах юстиции и правоохранительных органах. Например, А. А. Коробов в 1940–1946 гг. являлся членом областного суда и проходил службу в военной прокуратуре; М.М. Юдкин в 1940-1945 гг. являлся следователем, а затем начальником Московского уголовного розыска, сотрудником МГБ СССР26.
Нагрузка на сотрудников в данных органах не была высокой. В 1946 г. среднемесячное поступление дел на одного следователя военной прокуратуры составляло 2,1. В 1948 г. в среднем на одного члена трибунала приходилось 3–6 дел. В среднем, в месяц работник трибунала тратил на их рассмотрение 2-3 дня. Но нагрузка распределялась неравномерно. Так, председатель трибунала Группы Советских оккупационных войск в Германии М. рассмотрел за 5 месяцев 3 дела, члены трибунала П., М. и Б. – 4, 7 и 18 дел соответственно.
Структура преступности была следующей. В 1948 г. в военные трибуналы всех армий ГСОВГ контрреволюционные преступления составляли 26,1%, дела о воинских преступлениях (дезертирстве и о самовольных отлучках) – 23,6%, о хищении государственного имущества – 14,5%, о хищении личной собственности граждан – 15,7%. Остальные виды преступлений (иные воинские, убийства и др.) составляли незначительные доли. К этому следует добавить, что по данным Я. Фойтцик, советские военные трибуналы на территории Германии во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. осудили около 40 000 немцев27.
Особенности деятельности рассматриваемых органов юстиции можно проследить на основе актов ревизий, проводимых Ми- нистерством юстиции. Так, ревизия трибуналов ГСОВГ, проведенная в 1947 г. отметила ряд положительных моментов. Отмечались: «в основном», «правильная судебная практика»; «большая работа в борьбе с преступностью» и «за укрепление дисциплины»; наличие систематического обобщения судебной практики и информирование командования; большая работа по организации заочной учебы работников трибуналов28.
Одновременно разгромной критике подверглась деятельность трибуналов по делам в отношении изменников Родине и осужденных за контрреволюционную агитацию. Так, «военный трибунал Группы 28.10. 1946 г. под председательством подполковника юстиции Б. осудил капитана Г. по ст. 58-16 УК к лишению свободы в ИТЛ на 10 лет с поражением в правах и одновременно возбудил ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР об освобождении осужденного от назначенной ему меры наказания, тогда как к этому не было никаких оснований. Военный трибунал 3 Ударной Армии 21.8. 1946 г. неправильно прекратил в уголовном порядке дело по обвинению К. по ст. 58-1-а УК РСФСР, который, проживая на временно оккупированной немцами советской территории, при отступлении немецких войск, добровольно выехал с немцами в Германию и после капитуляции гитлеровской Германии отказался выехать в Советский Союз»29. Аналогичные ошибки были допущены по целому ряду дел.
Также критике подверглась практика рассмотрения дел по имущественным преступлениям. «Военные трибуналы Группы нередко применяли к виновным в этих преступлениях мягкие меры наказания. Военный трибунал 3 Ударной Армии, признав виновными быв. начальника госпиталя Г. и быв. начальника административно-хозяйственного управления госпиталя М. в систематическом хищении и разбазаривании военного имущества и продовольствия, неосновательно переквалифицировал их преступления с Закона от 7.8. 1932 г. на ст. 193-17-а УК и приговорил обоих к условному осуждению. При вторичном рассмотрении дела виновные были осуждены по Закону от 7.8. 1932 г. к 10 годам лишения свободы каждый. Военный трибунал 9 танковой дивизии 10.10. 1946 г. по ст. 193-17-а УК осуждены начальник продснабжения полка ст. лейтенант М. и зав. продскладом К., первый – к лишению свободы на 3 г. и второй – к направлению в дисциплинарный батальон за то, что расхитили и разбазарили продукты на сумму 69 тыс. рублей по госценам. Военный трибунал 3 Ударной Армии, признав офицера И. виновным в сокрытии от учета 22 т. различных продуктов и разбазаривании их, а кроме того, в продаже немцам 6 лошадей и 12 автомашин приговорил по ст. 193-17-а УК только к 2 годам лишения свободы»30. Анало- гичную практику проводил и Военный трибунал Группы, который также «по ряду дел необоснованно переквалифицировал преступления с Закона от 7.8. 1932 г. на ст. 193-17-а УК РСФСР».
Возмущение ревизоров вызвала и практика по делам о дезертирстве и самовольных отлучках. Несмотря на «широкое распространение» этих явлений судебная практика трибуналов по данным делам оценивалась как «недостаточно суровая». Например, «военный трибунал 207 с.д. осудил рядового Ш. с направлением в дисциплинарный батальон за то, что он в течение 24 суток находился в дезертирстве и до момента задержания разъезжал по разным населенным пунктам Германии, занимаясь воровством. Военным трибуналом гарнизона г. Берлина ст. техник-лейтенант Я. осужден по ст. ст. 198-7-д и 72 ч. 1 УК к лишению свободы на 1,5 года за злостное дезертирство на протяжении 7 месяцев».
Критиковалась практика по делам иностранцев: «ряд военных трибуналов применял к немцам, изобличенным в убийствах и истязаниях советских граждан, мягкие меры наказания в виде лишения свободы (дела Р., Ри., К., Б.). Приговоры по этим делам впоследствии были военным трибуналом Группы отменены, и подсудимые осуждены к ВМН». «Военный трибунал Группы недостаточно занимался изучением и направлением судебной практики по делам о немцах … Военный трибунал поздно реагировал на ошибки, допущенные [подведомственными] военными трибуналами ... Половина надзорных определений военного трибунала Группы вынесено в срок свыше 2 месяцев после вынесения приговоров, а одна треть – в срок свыше 3 месяцев».
Также ревизия выявила «случаи грубого нарушения военными трибуналами норм процессуального и материального права, упрощенчества в судебной работе, поверхностного исследования дел в подготовительных и судебные заседаниях, неправильного применения мер наказания и неправильной квалификации преступлений. Судебные документы зачастую излагались малограмотно, неряшливо, допускались подчистки и неоговоренные исправления». Военные трибуналы рассматривали дела в незаконном составе, привлекая в состав заседателей лиц, не утвержденных в установленном порядке. Подготовительные заседания проводились неудовлетворительно, без серьезного обсуждения вопросов, подлежащих рассмотрению. Это рассматривалось как причина необоснованного возвращения дел на доследование. Дела рассматривались «пачками». Например, председатель военного трибунала 8 механизированной дивизии майор юстиции К. 19.7. 1946 г. рассмотрел 22 дела, «что повело к большой отмене приговоров». Широко использовались заранее отпечатанные на машинке бланки протоколов и определений. «Судеб- ные процессы иногда проводились на низком уровне, без достаточной подготовки, в спешке»31. Трибуналы не назначали или отменяли назначенное взыскание в доход государства по делам об экономических преступлениях. Так, «по делу О., осужденного за хищение со склада продуктов по ст. 162-д УК к 3 годам лишения свободы, со взысканием в доход государства 17 983 руб., военный трибунал Группы совершенно необоснованно исключил из приговора взыскание этой суммы, мотивируя это тем, что “О. в силу несостоятельности не может уплатить взысканную сумму”».
В вину трибуналу Группы ставились неправильное снижение вынесенных приговоров, применение по контрреволюционным делам «политически неправильных формулировок, объективно оправдывающих злодеяния немецких преступников». Частными определениями трибунала Группы дела переводились из категории уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, давались указания лицам, не входившим в состав суда, рассматривавшего дело. Военный трибунал Группы не обобщал надзорную практику, слабо проводил ревизионную работу. Работа по обучению и воспитанию кадров «зачастую подменялась широким применением мер дисциплинарного воздействия. За год руководством трибунала Группы были наложены дисциплинарные взыскания на 21 работника, в том числе почти на всех председателей военных трибуналов армий. Дисциплинарные взыскания накладывались за ошибки в судебной практике, причем два председателя трибуналов армий без достаточных к тому оснований были предупреждены о неполном служебном соответствии. Имел место факт наложения дисциплинарных взысканий одновременно на трех председателей трибуналов дивизий за возвращение дел на доследование. Три других председателя трибуналов дивизий были отстранены от занимаемых должностей приказом Председателя ВТ Группы, на что он права не имел».
Критику вызывали сроки рассмотрения дел: лишь 65% дел рассматривались в срок до 10 дней. Сроки изготовления протоколов оценивались как длительные, хранение вещественных доказательств – как неудовлетворительное, взыскание денежных сумм – как несвоевременное. Делопроизводство оценивалось как «находящееся в запущенном состоянии».
Трибуналы не оказывали помощь в работе офицерским судам чести32. Среди оперативного и технического состава военных трибуналов Группы ревизия выявила случаи аморальных явлений (пьянства, бытового разложения).
Председателю трибунала Группы полковнику юстиции Н.Я. Майорову было приказано исправить выявленные недостатки. Дисциплинарное взыскание (выговор) было наложено лишь на пред- седателя трибунала 2 гв. мех. армии майора юстиции В.В. Смирнова за небрежность и грубое нарушение правил хранения секретных до-кументов33.
Итоги работы органов военной юстиции Центральной Группы войск за 1947 г. также жестко критиковались ревизорами: «Военные трибуналы Группы не использовали для борьбы с преступностью в войсках всей силы уголовного закона, и, несмотря на действие в группе войск норм военного времени, применяли зачастую более мягкие меры наказания, чем на территории СССР. Такие меры наказания, как лишение свободы до 3 лет, направление в дисциплинарный батальон и иные мягкие меры, применялись, например, в феврале в отношении 52,3% осужденных, в апреле в отношении 41,6%, в мае в отношении 46,6% осужденных». Также критиковалась «либеральная» практика по делам о самовольных отлучках, дезертирстве, грабежах и бандитизме. Отмечалось, что военный трибунал Группы «не только не нацеливал подведомственные ему трибуналы на усиление мер репрессии за опасные и тяжкие преступления, но, наоборот, как суд второй инстанции, в ряде случаев без достаточных основания снижал меру наказания осужденным»34. Например, трибунал Группы по мотивам, что осужденный, ранее никаких преступлении не совершал, снизил до 1 года дисциплинарного батальона меру наказания мл. сержанту Е., совершившему из части 3 самовольных отлучки и приговоренному трибуналом 2 воздушной армии к 3 годам исправительно-трудовых работ.
Изменения в работе трибуналов отмечались с 3 квартала 1947 г. Роль в этом сыграли Всесоюзное совещание председателей ВТ, директива Главного управления военных трибуналов № 02058, деятельность председателя военного трибунала Группы генерал-майора юстиции Г. Я. Подойницына. В результате «значительно снизилось применение таких мер, как направление в дисциплинарный батальон и иных мягких мер наказания, в сроки до 5 дней рассмотрено было – в июле – 63,2%, и в августе 75,4% дел; в открытых процессах в частях рассмотрено (за исключением дел о контрреволюционное преступлениях) в июле 56%, и в августе 70% дел о военнослужа-щих»35.
В то же время «Военные Трибуналы не использовали всех возможностей для лучшей организации борьбы с преступностью в частях, не являлись застрельщиками в этих вопросах, недостаточно координировали свою работу с мероприятиями командиров, политорганов и прокуратуры». Имели место случаи неосновательного прекращения дел по указам 4.6. 1947 г. В военном трибунале гарнизона г. Вены отмечалась недостаточная оперативность при их рассмотрении. Трибуналы не вели «решительной борьбы за сокраще- ние сроков расследования этих дел органами прокуратуры». Работа по разъяснению этих указов оценивалась как «кампанейская».
Имело место нарушение процессуальных норм: не предоставление последнего слова подсудимому, рассмотрение дел в незаконном составе суда. Судебные документы «излагались» «недостаточно удовлетворительно». Военный трибунал Группы проводил недостаточное количество ревизий подведомственных трибуналов, давал недостаточно продуманные и неправильные указания. Например, указание трибунала Группы № 0288 о порядке рассмотрения дел об офицерах и указание об установлении специального учета лиц, осужденных к условному наказанию, привело «к установлению излишней опеки над военными трибуналами, и к затяжке рассмотрения этих дел».
Военный трибунал Группы не реагировал на ошибки в докладах и отчетах подведомственных трибуналов, не обеспечил необходимого контроля в трибуналах за работой канцелярии и секретарей. Дело с исполнением приговоров и определений в части конфискации имущества «обстояло плохо». «Председатели военных трибуналов не уделяли этим вопросам должного внимания, не контролировали, как исполняются приговоры и определения». Секретари трибуналов не учились в заочных юридических учебных заведениях36.
Таким образом, представляется возможным выделить ряд особенностей функционирования и деятельность советских органов военной юстиции, расположенных за рубежом. Во-первых, в течение второй половины 1940-х гг. система органов военной юстиции за рубежом переживала период становления. Происходил поиск оптимальной структуры их организации. Этот процесс сопровождался сокращением их численности и штатов. К началу 1950-х гг. этот процесс, в целом, завершился. Компетенция рассматриваемых органов на данном этапе была весьма широкой. Они рассматривали не только специально определенные дела, но и дела, традиционно относившиеся к юрисдикции органов общей юстиции, а также крупные дела политического характера, в т.ч. в отношении иностранцев. Причем вплоть до начала 1950-х гг. рассмотрение этих дел проводилось по законам военного времени. Стоит отметить сильное влияние на компетенцию и деятельность данных органов военного командования Советской военной администрации в Германии.
Во-вторых, руководство стремилось выделять наиболее подготовленных сотрудников для укомплектования данных органов. Но, они испытывали систематический недостаток кадров с высшим юридическим образованием. Несмотря на достаточно высокий престиж службы за границей, количество вакансий в органах военной юстиции, особенно во второй половине 1940-х гг. было большим (30%).
Первоначально органы военной юстиции не были обеспечены адвокатами. Руководство вынуждено было пойти на экстраординарный шаг – выделение и финансовое обеспечение адвокатов за счет государства. Причем на эту работу выделялись исключительно бывшие сотрудники правоохранительных органов или юстиции.
В-третьих, нагрузка на работников была относительно небольшой. Но количество рассматриваемых дел распределялось неравномерно. Руководство органов юстиции рассматривало небольшое количество дел, перекладывая данную работу на некоторых своих сотрудников. Это позволяет предположить наличие сложных отношений в коллективах военной юстиции, дислоцированных за рубежом (наличие кланов, патрон-клиентских связей, «блатных» сотрудников).
В-четвертых, во второй половине 1940-х гг. модель кампанейского правосудия в рассматриваемых органах была нарушена. Руководство потребовало проведения одновременно нескольких кампаний по борьбе с контрреволюционными, воинскими и имущественными преступлениями. В результате сотрудники оказались дезориентированы. Это увеличило количество допускаемых ошибок при рассмотрении уголовных дел.
В-пятых, деятельность органов военной юстиции вызывала жесткую критику руководства. Пристальное внимание уделялось «мягкой», «либеральной», «недостаточно жесткой» судебной практике по политическим, воинским, имущественным делам. Также внимание уделялось допускаемым трибуналами процессуальным ошибкам. Часть из них являлась достаточно серьезными (рассмотрение дел в незаконном составе суда), другую часть можно рассматривать как дополнительные, указываемые для увеличения количества недостатков (оплошности в делопроизводстве). Выявленные ревизиями недостатки организационного плана также можно отнести к дополнительным.
Подводя итоги, следует отметить, что пристальное внимание руководства к военной юстиции в послевоенный период, объясняется делом ст. лейтенанта юстиции А. Баканова37, подозрениями в наличии коррупции, и последовавшей чисткой органов юстиции, которая закончилась отставкой председателя Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульриха.